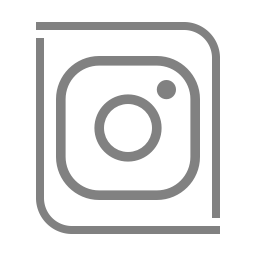Дневники Саши Д. (вместо предисловия)
Я, казалось, уже давно забыл этого человека… Мы вместе учились в институте на первом курсе. Это был поначалу очень тихий, робкий мальчик, старавшийся казаться незаметным. Однако весной что-то резко поменялось в нем, он целыми днями пропадал, не появлялся на лекциях, иногда я видел его нетрезвым… В группе ходили слухи о его бурном романе с одной нашей однокурсницей, которая вела весьма легкий образ жизни.
Саша даже не явился ни на один экзамен летней сессии. Его дальнейшая судьба мне была неизвестна, хотя кто-то из знакомых говорил, что по слухам Саша попал в армию, в Афганистан… По крайней мере, в списках второго курса его фамилия уже не значилась, и я его больше не видел… Вскоре исчезла и перестала появляться в институте и его подруга…
Эта история, ничем особенно не примечательная (тогда из института было отчислено еще несколько человек, в том числе два моих близких друга) так бы и забылась окончательно, если бы более чем через двадцать лет, в феврале 2007 года Саша не написал мне письмо – он нашел мой адрес в Интернете – с предложением встретиться. Я ответил неохотно, тем более, что я мало с ним общался даже в институте, несколько раз переносил встречу под разными предлогами. И все-таки нам суждено было увидеться в конце февраля. Саша пришел ко мне домой. Я не узнал в крепком и, как я сразу отметил своим взглядом профессионального психолога, видавшем виды мужчине того хрупкого паренька, каким я его когда-то знал.
Встреча наша длилась не долго: Саша рассказал, что нашел в Интернете информацию о моих книгах, две или три из них прочитал и решил передать мне свои дневники, записи разных лет – несколько блокнотов:
- Возможно тебе, как писателю, будет интересно сделать из этого, - Саша указал на блокноты, - небольшую повесть…
- Да какой я писатель! – рассмеялся я, - просто начинающий литератор-любитель, напечатавший несколько книг маленькими тиражами.
- А для этих материалов и не нужны большие тиражи и массовая аудитория. Мало кто поймет то, что происходило со мной за эти годы, зато те немногие, в ком это найдет отклик, возможно, будут благодарны за твой труд. Ты погоди, Влад, - он прервал возражения и попытку отказаться, которые готовы были уже сорваться с моих уст, а я, в свою очередь отметил, что он хорошо разбирается в настроении собеседника, - не торопись, никаких обязательств мне не нужно. Пролистай, присмотрись, и если почувствуешь желание – напишешь, а нет, так нет, я в обиде не буду. Мне эти бумажки больше не нужны. В конце концов, можешь выбросить на помойку.
- Хорошо. Но тебе-то зачем нужно, чтобы события твоей жизни и твои мысли были растиражированы?
- Так это не мне нужно, - усмехнулся Саша, - и в его глазах заблестели озорные искорки, - это вам нужно…
- Кому это – вам?
- Тебе, судя по тем твоим книгам, что я прочитал, да и еще многим, хотя бы тем, кто тебя читает. Это тема для тебя, Влад. Когда я писал дневники, я не собирался их публиковать, у меня даже мыслей таких не возникало, но вот когда нашел тебя и почитал, понял, что здесь ты найдешь как раз то, что искал. Измени только имена и кое-какие детали. Можешь даже не печатать, просто почитай для начала.
И он ушел, отказавшись оставить свой телефон. Страничка на сайте «Одноклассники», с которой он отправлял мне предложения о встрече, как я недавно обнаружил, удалена.
Меня охватило любопытство, когда Саша сказал, что я могу найти здесь то, что искал, о чем писал и до чего так и не доискался. Я начал перелистывать блокноты и постепенно меня захватили эти хаотические записи; жизнь и мысли моего институтского знакомого взволновали меня настолько, что я не спал в ту ночь. А на следующий день меня уже занимала идея – в какой форме изложить записи Саши, прерывистые, хаотичные, но написанные будто оголенными нервами? В конце концов, я пришел к выводу, что изложение можно построить в виде «потока сознания»… Несколько дней я вживался в образ, а затем «поток сознания» хлынул – только успевай записывать. Я написал повесть на одном дыхании, изменив имена и название института, немного подвинув даты, добавив кое-какие рассуждения от себя (Саша, давая мне дневники, даже просил не ограничиваться только его материалами). Сейчас, когда повесть окончена, я понял, почему Саша, психолог, как оказалось, еще более тонкий, чем я, заранее знал, что я обрету много больше, чем я мог ожидать. Несколько недель, когда я ежедневно (точнее еженощно) писал повесть, я был счастлив, жил здесь и сейчас, испытывал то возвышенное чувство, которое Карлос Кастанеда назвал «переживанием ужаса и одновременно восхищения от того, что ты – человек». Я искренне благодарен этому человеку, который, будучи одним из многих (Das Man – как презрительно назвал человека толпы Мартин Хайдеггер), обрел Подлинное Бытие (Dasein).
Я и раньше задумывался о том, что путь к целостности, путь индивидуации, очень часто начинается не с поисков гуру или занятий какими-то специальными эзотерическими практиками, отнюдь, этим можно заниматься безо всякого толку десятилетиями, и я очевидец сотен подобных примеров; а начинается настоящий путь часто с какой-нибудь нелепицы, даже, как может показаться, пагубной ошибки… Классическая литература дает нам множество подобных примеров: так Фауст, подписав договор с Мефистофелем, пускается во все тяжкие; так король Лир, начинает с нелепой прихоти тирана – приказа дочкам выразить свою любовь к нему и, пройдя через отрезвляющее безумие, сам обретает любовь; так Дон Гуан, дурачества ради, приглашает статую Командора в дом его вдовы, где собирается соблазнить ее, и интуитивно понимает, что отступать теперь уже нельзя, открывает себя Донне Анне, превращаясь из искателя легких приключений в человека, который впервые полюбил и преобразился… Эти сюжеты стали классическими, так как они отражают некие архетипические особенности созидания души.
В истории Саши происходит нечто подобное: его наставницей становится женщина легкого поведения, как это кажется на первый взгляд, и стоящий за ее образом демон похоти Василиск… Впрочем, я забегаю вперед… Я буду рад, если кто-то из читателей сможет, как и я, в сюжете далеко не самом нравственном, разглядеть величие и красоту судьбы человека, а может быть и общечеловеческой Судьбы.
Владислав Лебедько
Часть 1.
«Поэтому каждый из нас любит жить для себя и держать в укрытии самих себя, как собственных мирных животных. Лишь иногда мы делаем робкий глоток, отпивая от другого человека, который уверяет, будто его переполняет сладостное желание. Но уж если действительно пожелаешь чего-нибудь, то получишь это не от него».
Эльфрида Елинек «Похоть»
1.
Она любила меня…
Я ее хотел, ненавидел, ревновал, восхищался ею, благодарил, но более всего ненавидел и столь же сильно хотел, жаждал обладать ее всегда доступным, но не всегда для меня, телом, столь женственным, пьянящим, дурманящим и при одном лишь взгляде сводящим с ума; ее тело было разменной монетой в самых разнообразных случаях, от сдачи экзамена до перехода государственной границы и вызволения меня из плена; впрочем, она не только платила им, но и получала, получала бездну наслаждений от своей сексуальности, властности, необузданности, отдаваясь бескорыстно и корыстно, трогательно-нежно и бешено-разъяренно, отдаваясь всякому, кто желал ее и всякому, кого желала она; боже как часто это происходило на моих глазах, происходило ради меня, я готов был убить ее в эти минуты, даже зная, что погибну сам, я готов был отдать жизнь за то, чтобы насладиться ею до, после и вместо кого бы то ни было, она играла мною, она играла собой, она играла огромным множеством мужчин, а иногда я видел ее плачущей, уставшей от этой бесконечной игры; заметив на себе мой взгляд, она переходила от плача к смеху, смеху призывному, и глаза ее блестели как у дикой кошки, и она снова отдавалась мне или кому-то еще, какая разница, логика перебора ею партнеров была непостижима, за исключением разве тех моментов, когда она рисковала собой, спасая мою жизнь… она любила меня… Впрочем, с той поры, которая связала наши судьбы в причудливый, но тугой узел, до сих пор сдавливающий мне дыхание, когда я просыпаюсь, пусть уже давно с другими женщинами, просыпаюсь от несказанно сладкого сна о ней: я сейчас без трусиков хочешь потрогать? – слова, которые впервые лишили меня рассудка, хотя, вероятно, это произошло на полгода раньше… с той поры прошло уже почти двадцать пять лет и я не могу гарантировать того, что множество раз в своем воображении я не переписал и не отредактировал, всякий раз с новыми акцентами, всю историю нашей связи, так уж устроен человеческий ум, он непрестанно редактирует прошлое, настоящее и будущее, особенно прошлое, которое не существует само по себе, мы создаем его из разрозненной мозаики воспоминаний, составляя новые узоры, с иной освещенностью, перспективой, щедро добавляя или убирая краски, сдвигая композицию и меняя местами фигуры и фон… она любила, когда ее желали… она любила, когда ее желали?... она любила, а ее желали… она желала… двадцать пять лет могли переставить акценты в подспудном желании завершить множество незавершенных мотивов, примирить противоречивые чувства, заставить себя уверовать в наименее болезненную версию событий, или все-таки, наиболее болезненную, доставляющую и сейчас мне ту изрядную долю мазохистского наслаждения, которое я, признаюсь, испытывал, оказавшись невольным свидетелем того, как она отдавалась другим мужчинам или просто зная, даже догадываясь об этом, мне никогда уже, видимо не понять ее мотивов, я могу продолжать пытаться их истолковывать как угодно, с бытовой, психоаналитической, трансперсональной или экзистенциальной точек зрения, все это пустое… все, что мне доступно, это хоть как-то понять и принять свои чувства к ней и мотивы, и это именно то, ради чего я пишу эту рукопись. Я сейчас без трусиков хочешь потрогать?.. глупые слова взбалмошной шлюшки, нарывающейся на очередное приключение, тем не менее, этим словам, пронзившим мою судьбу, я обязан тем, что жив до сих пор, тем, что остался невредим, пройдя год войны, несколько недель плена, да и еще много всякого… когда смерть подходила совсем близко несколько раз, именно ее тело без трусиков оказывалось нитью Ариадны, выводящей меня из мрачных лабиринтов подземных пещер Аида, в которых обреченные дожидаются билета в один конец. Она все-таки любила меня, я же ненавидел, жаждал, ревновал, пресмыкался, но более всего, как я понимаю это уже сейчас, завидовал, да – именно завидовал ей, свободной начинать почти каждый день новую жизнь, действительно новую, будучи уже не той, что вчера, меняясь от партнера к партнеру, в ее податливом и недоступном разве что для ленивого, теле, душа претерпевала перерождения, ее суть была неуловима, ее жизнь была Путем, а не оседлым прозябанием одной и той же субстанции, неважно, скучает ли эта субстанция у телевизора, лениво переключая программы, совершает ли пробежки в парке по одному и тому же маршруту из года в год, просиживает ли штаны в офисе, а я тогда, почти двадцать пять лет назад переборол-таки робость домашнего мальчика и потрогал ее, вонзил дрожащие пальцы туда, где без трусиков, где жаркая липкая влага оросила не только руку, но все существо мое огненным сумасшествием, и сейчас, сколько бы раз мой ум не редактировал все, что случилось со мной с той поры, сколько бы раз не смещал акценты в самые противоположные полюса, не жалею об этом, впрочем, что бы ни было, а вот не жалел я об этом никогда. Она любила меня, как это парадоксально не звучит, я же до сих пор не знаю, любил ли когда-нибудь ее или кого-то еще.
2.
Она никогда не говорила про любовь, она просто любила…
Позже, в начале девяностых, Толковательница, а затем, еще пятью годами позже, Дед, помогли мне понять это; ох уж эта Толковательница: сколько гнилой моей крови она выпустила, а ведь появилась однажды в девяносто втором году на вечеринке, где пили уже не «Портвейн», как в семидесятых и восьмидесятых, а разноцветные «Амаретто», отраву еще большую, чем спирт «Рояль» в литровых бутылках с красными пробками; Толковательница тогда подошла ко мне, пьяненькому, мрачно опершемуся на кулак и пребывающему вне времени, а может быть и в неком времени, где-то в скалах неподалеку от Герата, где пожилой дух[1] последний раз в своей жизни отправил семя в лоно той, что любила меня и спасала меня; Толковательница – так я звал ее потом, и так ее звали многие, подошла ко мне – я до сих пор не могу взять в ток – как она могла оказаться на той вечеринке, эта гордая пожилая (а было ей тогда уже за семьдесят) сухощавая высокая женщина с аккуратным узлом седых волос и неизменной громадной брошью; она заботливо поправила воротник моей рубашки, улыбнулась так, как могла улыбаться только она – одними морщинками возле глаз, у нее были удивительные глаза, в которых можно было затеряться, утонуть и выплыть в совершенно неожиданном мире; кажется она сказала тогда: как тебя зовут, одержимец? – да, именно одержимец, и это было ее первое из многочисленных попаданий в десятку – я моментально протрезвел: Саша, она вновь улыбнулась глазами: а, Александэр! – она так и будет потом меня звать, с ударением на эр… и я окунулся в ее зрачки, они вытащили меня оттуда – из-под Герата, они еще много раз потом вытаскивали меня оттуда; да что же произошло там под этим самым Гератом? – спросите вы, и я отвечу, что это очень долгая история, что нужно обо всем по порядку, впрочем, зачем по порядку? – так говорила и Толковательница, - просто расскажи… - хорошо, Эмма Робертовна (она была обрусевшей немкой, психоаналитиком… очень необычным психоаналитиком; позже, изучая психологию, я понял, что Толковательница сочетала то, что не сочетает уважающий себя профессионал – странная фраза «уважающий себя профессионал» - Толковательница была выше, чем просто профессионал, она уважала и себя и тех, с кем общалась, и тех, кто составлял ее внутренний мир, и при этом сочетала взгляды Фрейда, Юнга, Лакана, Делеза и еще многих в своей работе – я пишу «в работе», понимая, что это и не работа вовсе, ибо она была вне всяких правил и норм того же психоанализа, да и не только…), хорошо, я расскажу… - вот и славно! она уселась на диван рядом со мною, положила свою теплую сухую ладонь на мои пальцы, стало тепло и тихо, и гости как будто растворились, мы были одни в плавно раскачивающейся комнате, и можно было говорить ВСЕ, я никогда ранее не знал, что такое бывает, что нет никакой нужды что-то удерживать в себе, проворачивая тяжелые мысли по кругу в изъеденном алкоголем и «травкой» мозгу, упрямо, назло всему миру – не было нужды в этом! и я расплакался, а Толковательница просто сидела рядом и слушала, как я плачу; это редкий талант – слушать, как человек плачет, потому, как каждый плачет по-своему и о своем, и чтобы принять его слезы, недостаточно сидеть просто отрешенно, безмолвно изображая сочувствие, необходимо понять мелодию этих слез; Толковательница поняла, - как она это делала, я не знаю до сих пор, но тогда, вслед за слезами прорвался поток слов, предложений, описаний, жестов, интонирований – я снова погружался в лето тысяча девятьсот восемьдесят третьего, и рука Эммы Робертовны загадочным образом вытаскивала меня оттуда, нет, еще не полностью, слишком глубоко увяз я в горячих песках этого лета, Толковательнице потребуется несколько месяцев, чтобы извлечь меня оттуда полностью… горячий песок, горячие скалы, жара за сорок,.. я валяюсь со связанными руками на песке, грязный, оборванный, вонючий, впрочем, все это меня не волнует, меня не волнует даже голод – кормят меня уже который день – счет дням я потерял – может неделя, а может и месяц, - куском черствой лепешки один раз в день, да парой глотков воды из фляги, я тупо жду когда меня убьют, но почему-то они медлят, в этот полдень со мной только один дух с проседью в широкой бороде, остальные пятнадцать или сколько их там душманов ушли, видимо на операцию… дух лениво отхлебывает из фляги и, встретив мой просящий взгляд, также лениво пинает меня ногой. И тут из-за скалы является видение – она, прошу прощения, я так и не назвал ее имени, неужели я все еще, несмотря на усилия Толковательницы и Деда, боюсь или, может быть, стыжусь? ее имени, ее звали Катя, простое имя, но я долго еще избегал женщин, которые носили это имя… Я закрываю глаза и вновь открываю их, но видение не пропадает, потом, позже я напишу еще каким невероятным образом она оказалась там; дух, кажется, тоже заметил ее, насторожился и, опустившись от неожиданности на песок, стал шарить рукой в поисках автомата, взгляд же был неотрывно направлен на нее, ее чары здесь, в раскаленном клочке пустыни, окруженном острыми скалами, омывали волнами прохлады, о как она умела смотреть на мужчин! а сейчас она смотрела не на меня, а на этого вонючего шакала, впрочем, я сам был гораздо менее привлекателен и, по-видимому, еще более вонюч, чем он… Катя смотрела на него несколько минут, затем, вдруг, медленно стащила с себя джинсы и футболку, и все ее очаровательные выпуклости и прелести затрепетали в горячем воздухе, она опустилась на колени и раздвинула ноги, продолжая смотреть ему в глаза и улыбаться призывно, маняще… даже я пришел в сознание и понял, что она не призрак, хотя откуда ей тут оказаться? дух же издал гортанный крик и, приседая, побежал к ней, позабыв меня, позабыв автомат, позабыв все на свете, на ходу стаскивая с себя штаны, он залез на нее сзади, быстро задвигался как кролик, улюлюкая и похрюкивая, а она… что она? ее лицо размякло, глаза покрылись поволокой, дыхание участилось, она застонала, Господи! зачем я слышал эти стоны? ее бедра двигались плавно, позволяя душману входить предельно глубоко; я ныл, скорчившись в агонии, не понимая, за что мне в этом и без того кошмарном аду еще и такая изысканная мука, как вдруг услышал ее голос: дурачок, возьми же автомат! ну же, быстрее! я, сделав отчаянное усилие, дотянулся связанными руками до автомата, возникла мысль расстрелять их вместе, выпустить всю обойму, чтобы тела обоих были искромсаны в клочья. Но не смог прицелиться, тогда я поднялся и медленно двинулся к ним, его глаза расширились от ужаса, но он не мог уже остановиться, и она делала все для этого, ее движения стали резче, стон перешел в крик… Я размахнулся, насколько мне позволяли связанные руки и ударил затвором по затылку духу, тот закричал, продолжая двигаться еще быстрее, ручеек крови сползал по его шее, я ударил еще раз в темя и лишь тогда он оторвал руки от ее бедер, они повисли, дух захрипел и сполз на землю. Я стоял не шевелясь, а Катя… Катя глубоко вдохнула, посмотрела на убитого с какой-то даже нежностью, как мне показалось, затем склонилась над ним и закрыла его веки, засмеялась: - а мы с ним кончили вместе!... затем развязала мне, онемевшему от ее слов более, чем от всего, что им предшествовало, руки, - разве ты меня не хочешь? с еще большим ужасом я почувствовал, что мои рваные штаны вздыбились, а она расстегивала мне ширинку, я снова сходил с ума и очертя голову устремился в ее горячее – не сравнить даже с раскаленным воздухом – влажное открытое лоно, и через минуту-две от ненависти, ревности и брезгливости не осталось и следа, а она смеялась, стонала, жадно покрывала меня, небритого, колючего и вонючего освежающей и пьянящей влагой поцелуев, и скоро я шептал и почти кричал ей что-то ошеломительное, какие-то безумные обещания и слова любви, пока не обессилел и не свалился с нее… я так и лежал еще минут десять, ослабевший, в очередной раз облитый, как мне казалось, несмываемым потоком нечистот, возле трупа пожилого духа, так славно окончившего свой век; затем она подобрала его котомку с хлебом и флягой воды, повесила мне на шею автомат, застегнула штаны, натянула джинсы и кроссовки и, схватив меня за руку, поволокла, безвольного вдоль тропинки, пролегающей между скал: - скорее, милый, они могут вернуться в любой момент! я бежал, вернее, тащился в полубреду, а она то и дело доставала флягу и давала мне отпить глоток, пока вода не кончилась; поздно ночью мы очутились вблизи какого-то маленького кишлака и укрылись в загоне для скота, странно, что мы не наткнулись ни на одну мину, а в некоторые моменты я желал, чтобы все окончилось именно этим; я не помню той ночи совершенно, помню только, что когда проснулся, Катя поила меня козьим молоком…
- Милый мальчик, - тихо произнесла Толковательница, - вас спасла Великая Богиня, одно из имен которой – Катя…
- Что?!
3.
Ищи противоположности всему, что ты хочешь или, наоборот, не хочешь, - учил Дед; если ты что-то отвергаешь в себе, других или в жизни – ищи в себе столь же страстное желание этого, это аксиома, - не раз повторяла Толковательница. Я ненавидел всех многочисленных любовников Кати, ненавидел ее, а во время встреч с Толковательницей убеждался, переживал до глубины нутра, что я завидовал ее мужчинам, я хотел, да – хотел, черт возьми!, чтобы она без конца путалась с кем попало, я завидовал ее свободе, ее умению дарить любовь, - отнюдь не только тело, как я начинаю понимать, - первому встречному, она учила меня этому, я не знаю как она умудрилась в своем совсем еще юном возрасте, - а что такое семнадцать-восемнадцать лет в наше время? – быть настолько взрослой, быть трамплином для очень многих, для меня… и в тоже время – занозой, измождающей мою душу до сих пор, несмотря на все усилия Толковательницы и Деда… Дед… для него реальным был только дух, он презирал гуманизм и «прочие сопли»: правило гуманистической этики – твердил он мне - гласит: человек человеку - друг, товарищ и брат, в действительности этот принцип не выполняется, но для устойчивости социума вполне достаточно и того, что он провозглашается, для духа же данный принцип не играет никакой роли - даже в качестве благого пожелания или заклинания; уголовный мир руководствуется не менее древним принципом "человек человеку - волк", который, на первый взгляд кажется простой констатацией факта, лишенной каких-либо иллюзий, но на деле он порожден неврозом обиды и призывает тратить силы на волчью грызню, а для духа это значит терять скорость, так что оба правила неприемлемы для духа, и после всех вычитаний остается простой закон: человек человеку – трамплин… я спорил с Дедом, не мог принять его цинизма, очень здорового, как я теперь понимаю, хотя и продолжаю иногда сомневаться, но Катя действительно была моим трамплином, только я умудрился сорваться с него, или все-таки не сорвался?.. моя память уносит меня в совсем недавнее время, кажется это две тысячи третий год, и я сижу на Казанской во вьетнамском ресторанчике «Золотая Панда», где посреди зала протекает миниатюрная речка, в которой плавают рыбы, а азиатская девушка в ярком красном халате несет нам с Маргаритой сливовое вино и жареные тропические овощи, но и я и Маргарита меньше всего интересуемся сейчас заказом, наши руки сплетены, пожатия пальцев обещают то, что, кажется, ты так давно искал, хотя краешком ума ты понимаешь, что все это было уже сотни раз, и ты либо все уже давно нашел, либо не найдешь никогда; мы бесстыдно целуемся, не обращая внимания на нескромные взгляды посетителей и понимающую улыбку официантки, видавшей виды; наверное со стороны это выглядит смешно – дядька под сорок с залысинами и двадцатилетняя девочка, но я опьянен, я, знавший после Кати сотни женщин, опьянен, как в тот первый раз ранней весной восемьдесят второго на дискотеке во Дворце Молодежи, когда, преодолев под действием двухсот граммов водки робость, я впервые танцевал с Катей, удивляясь всем своим существом, что это возможно, что это состоялось, это невероятно, немыслимо, это не со мной, но вот же она, ее бархатное фиолетовое платье, аромат волос, который губит, глаза в глаза и улыбка, за которую я готов был тогда, да и потом множество раз, отдать жизнь, а в иные моменты – отнять жизнь у нее… и ее дерзкий шепот мне в ухо: убежим отсюда! – сказать, что я потерял голову от этих слов мало, я потерял все свои опоры, все за что цеплялся домашний мальчик, лишь отчаянно мастурбирующий вечером под одеялом, рисуя воображением ее образ, - нет - даже не смея представить ее с собой, просто издалека, а потом, излившись, брезгливо цедящий сквозь зубы: блядь!, чтобы через полчаса повторить все сначала, и так несколько раз за начало ночи, чтобы вконец обессилев от противоречивых чувств, постыдно удовлетворившись очередной раз, уже где-то под утро, злобно ударить несколько раз подушку и упасть, одновременно проваливаясь в сладкий сон о ней; и вот так вот вдруг услышать: убежим отсюда!, еще не веря, что это намек, еще ожидая подвоха, еще надеясь! на то, что что-нибудь да помешает оказаться с ней совсем наедине в прохладном тумане на Песочной набережной и целоваться, первый раз в жизни так вот запросто… целуясь в «Золотой Панде» с Маргаритой, я мысленно улыбался, вспоминая свою растерянность тогда, и как потом мы побежали, она веселая, играющая, наслаждающаяся всеми вибрациями этого вечера, и я, глуповато улыбающийся, одуревший девственник, порочный в своих фантазиях, но струсивший, когда фантазии оказались куда бледнее реальности, да и была ли это реальность, когда, подбежав к какой-то парадной, я вдруг остановился как вкопанный от ужаса и предвосхищения, что неужели?, а она обвила меня своими чудесными руками, не худенькими девичьими, а настоящими женскими руками, прижалась тугой грудью к моей груди, нагло, с дерзким вызовом, дразня и сводя с ума, вернее, с того, что еще от него оставалось, о, этот наглый взгляд ее безумно манящих глаз!, и сказала, что она без трусиков,… впрочем, я повторяюсь, и, видимо, буду еще повторяться, потому что эта волшебная, эта паскудная, эта приглашающая в сады Эдема фраза стала ключом, отпирающим мою новую жизнь, ибо я тогда умер в той парадной, умер и родился заново, родился человеком не просто познавшим женщину в грязной парадной, среди разбитых бутылок, плевков, окурков и запаха мочи, но познавшим вкус Богини, впрочем понял это я много позже, тогда все происходило как в замедленной до предела кинопленке, как бесконечно долго она стаскивала мои брюки, а я стоял, остолбеневший, не смея пошевелиться, затем развернулась, задрала платье, расставила ножки – на ней были белые с блестками чулки – такие не продавались в советских магазинах – и на каблучках она оказалась как раз по высоте, но я так и стоял, как громом пораженный – на ней действительно не было трусиков, - сейчас я за сто метров могу по походке определить женщину, которая идет без трусиков, тогда сам этот факт был невозможен для моего сознания, но его предъявили мне во всей обескураживающей реальности, и что мне оставалось делать, как не решить, что это сон, или я действительно умер и нахожусь в ином мире, в аду, скорее всего, потому как она – несомненно блядь – теперь я это видел воочию, а не только по слухам, но Господи, пускай она тысячу раз блядь, пусть сама Вавилонская блудница! - я изнемогал от счастья и небывалой остроты желания, а она смеялась, и смех ее был невинен и ласкал мой слух, как голоса ангелов, - откуда им взяться в аду?, она смеялась: потрогай, смелее, и входи… ну же – уже требовательно, и я подчинился, сердце колотилось у меня в горле больно-больно, но боль эта исчезла, стоило мне решиться, выйти из оцепенения, дальнейшее я не берусь описать словами, ибо беден мой словарный запас, впрочем, и слов таких, наверное, не существует, мир просто растаял, я обладал ею и не верил в это… она была трамплином для меня… и не только тогда, а вообще – трамплином… и куда я лечу с него до сих пор?
4.
Ах, Маргарита, Рита, девочка моя, я вспомнил нашу первую встречу, я шел по Садовой и увидел тебя, опытный мой тогда уже взгляд точно определил, что ты тоже без трусиков, это не обязательно было поводом для того, чтобы я знакомился, я не был уже одержимцем, как называла меня Толковательница, почему же я не пропустил тебя, и что во мне пленило тебя настолько, что через час мы уже целовались в ресторане, позабыв приличия, впрочем, после всего, что у меня было с Катей, какие могут для меня еще быть приличия?, и что удерживает нас вместе уже четыре года?, тогда как после Кати я ни с кем не сходился более, чем на две недели… ты излечила меня от занозы, оставленной Катей, уже после того, как я увидел ее в последний раз два года назад, увидел в обстоятельствах, ошеломивших меня, готового, казалось, уже ко всякому, ошеломивших совсем иным образом, чем тогда, в парадной на Песочной набережной, впрочем, еще не время для того, чтобы писать про это, - почему не время? – ведь для сознания времени не существуют и картинки восемьдесят второго года лежат в памяти столь же близко, как и картинки две тысячи пятого, точнее, какие-то картинки и того и другого года лежат близко, а иные далеко, но отнюдь не время определяет эту дистанцию, а что бы вы думали? – степень наделенности того или иного образа сексуальной энергией – либидо, - так говорила Толковательница, и вы можете высокомерно посылать Фрейда ко всем чертям, при этом вы посылаете не его, а свои искаженные, боязливые, суженные до убогих размеров конвенциальной морали, представления, потому что боитесь либидо, как боялся его я, долго боялся, долго боролся с ним, и Катя, бесконечно милая мне и проклятая мною, прекратила эту борьбу, помирила меня с собой, с бытием… да, кроме Кати в этом поучаствовали и Толковательница, и Дед, и Маргарита и множество женщин, а прежде всего она – Великая Богиня, которую я, на самом-то деле и ненавидел и желал, и боялся, был ею повержен и вырвался из ее цепких смертоносных объятий, вырвался с бесценным даром ее, о котором умолчу пока – не набрал еще этот образ (образ великого дара Богини) достаточной энергии либидо, чтобы я мог вот так запросто достать его из глубин сознания и бессознательного, и предъявить вам сейчас же; для того и текст этот пишу, чтобы шанс на это получить… Великая же Богиня была одной из любимых тем Толковательницы, о, она знала толк в этой теме; вместе с ней я совершал путешествия по подземельям и вершинам моей психики, отыскивая следы Богини в Катиных поступках; вот, скажем, какого беса потянуло ее пробираться за мною в Афган, куда попасть простой женщине в восьмидесятых было очень сложно? - всех, кто там работал, отбирали в верхних эшелонах власти, пославшей нас – сотни тысяч молодых парней, дабы показать «невежественным мусульманам» сколь могуч и крепок фаллос нашего Отечества; Катя любила меня, она пробралась «за речку», чтобы быть со мною, пробралась всеми правдами и неправдами, - вы, возможно, будете настаивать, что неправдами, потому как попала она туда, используя исключительно свое тело, и используя не единожды, и не в одном кабинете, да и не только в кабинетах, конечно же… я же скажу, что правдами она добралась, вернее одной правдой, и то, что она приехала из-за любви, любви какой вам и не представить в своих обустроенных оседлых мирках, - это лишь часть ответа, другая же часть, состоит в том, что ею двигало авантюрное влечение, абсолютно чистое от всяческой привязанности к чему бы то ни было, - для Деда это признак высочайшего класса, абсолютный респект, - кроме влечения к фаллосу, как высшей символической ценности человечества – это уже слова Толковательницы, точнее, не ее даже, а Жака Лакана, сумевшего истолковать Фрейда так, как тот и сам не дотянул; впрочем, с какой стати верить этим прохвостам и безбожникам? – а вот послушайте, что однажды сказала Толковательница, анализируя цепочку, по которой Катя, для которой я был дороже жизни, а чего уж там говорить про всяческие нормы, мораль и нравственность, которая (нравственность) есть чистой воды обоснование права на собственность, - вы почитайте «десять заповедей» внимательно – и поймете, что ничего, кроме попытки узаконить столь иллюзорное явление как собственность: на тело, на другого, на вещи и прочую шелуху, за ними не стоит, но ведь кому-то понадобилось впечатать в гены нескольких сотен поколений незыблемость этой иллюзии, которая не более чем прах, и возвести ее в святыню, так что мы вынуждены с придыханием произносить слово «нравственность», апеллируя к ней как к абсолютному непререкаемому авторитету, аксиоме, а посмотрите чуть пристальней и смелее и увидите, что за этой аксиомой – пшик, стоящий, правда на службе у тех, кто пытается вершить судьбы этого мира, хотя, по большому счету, его судьбы вершатся фаллосом, вот и Толковательница об этом говорила (вы уж извините мне этот долгий пассаж в сторону – мы к нему еще вернемся), обсуждая со мной непостижимую логику Катиных поступков: на санскрите «независимая женщина» синоним шлюхи, а в античности такая женщина являлась не только универсальным типом женственности, но и сакральным типом; но не привязана к мужчине и женщина, которая символизирует и обеспечивает плодородие земли, она — мать всего, что было или будет рождено; и лишь в приступе страсти она жаждет мужчину, который является просто средством достижения цели, обладателем фаллоса; все фаллические культы неизменно отправлялись женщинами - они играли на одном и одном и том же: анонимной силе оплодотворяющего фактора, фаллосе, как таковом; человеческий элемент, индивид, является только носителем -- преходящим и временным носителем — того, что не исчезает и неподвластно времени, потому что вечно остается одним и тем же фаллосом… - и, строго посмотрев на меня поверх очков, Эмма Робертовна добавляла, - вот за фаллосом и путешествовала Великая Богиня Катя, как, впрочем, и положено Великой Богине. Если следовать этой логике, то всякая женщина, в которой Великая Богиня хоть сколько-нибудь проявлена, движима единственной целью – этим самым фаллосом; остальные же пребывают в блаженной иллюзии, что движимы нравственностью, то бишь собственностью, что абсолютно глупо, ибо фаллос – категория вечная, а собственность преходяща, впрочем я не всегда верю тому, что говорила Толковательница, я верю ей только когда сознаю себя причастным фаллосу, то есть, мужчиной… мужчиной, которого любит Великая Богиня, которого любила Катя – о боже, как я ненавидел ее за эту чудовищную, обнаженную истину!.. истину ли? – я же говорил, что считал это истиной, только когда переживал себя мужчиной, точнее – бывал им, а мужчиной меня сделала Катя - трамплин мой долбанный; жил бы себе спокойно дитем, как большинство живет, и в ус бы не дул…
5.
О, как часто задумывался я – зачем же случилось так, что весь мир сошелся клином на этой потаскушке, на этой удивительной, прекрасной и презренной женщине, которая столько лет не дает мне покоя, впрочем, каким бы ужасом обыденности была бы моя жизнь, если бы ее заполнил этот вожделенный покой; вот уж воистину: «общая мировая душа – это я… я» - это про нее сказано, - «во мне душа и Александра Великого, и Цезаря, и Шекспира, и Наполеона, и последней пиявки. Во мне сознания людей сплелись с инстинктами животных, и я помню все, все, все, и каждую жизнь в себе самой я переживаю вновь», - сколько же жизней вошло в нее?, и уж несомненно – моя жизнь, я был просто ее придатком, подобием сына-любовника, обреченного на кастрацию, как любила говаривать Толковательница, о! она построила из наших взаимоотношений с Катей великий миф, а скорее, просто вписала нас в миф уже существующий, миф о Великой, Желанной и Ужасной Матери Богине, само же воплощение Великой, Желанной и Ужасной я отчетливо вижу перед внутренним взором и сейчас, поздней осенью две тысячи седьмого года, вот она сидит на пятой парте справа в двести восьмой аудитории, она юна и прекрасна, я уверен, что в тот день в нее влюбилась вся мужская, а возможно, и женская часть нашей группы; она одета в облегающее светло-голубое платье, дарующее свободу даже самому ленивому воображению увидеть прекраснейшую из женщин, уже не девочку, а именно женщину, с распущенными каштановыми вьющимися волосами, водопадом ниспадающими до лопаток, упругой грудью, точеными ножками, впрочем, о ее внешности бесполезно писать, ее нужно было видеть, лицо ее было совершенно необыкновенно, особенно глаза, дерзкие, наслаждающиеся, да-да, именно наслаждающиеся, ибо сама она, казалось, состояла из одного только наслаждения и для наслаждения была создана, я сразу понял, что эта очаровательная, пленительная девушка не для меня, а в ней ни тогда, ни позже невозможно было заметить ни следа порока, хотя девственности она лишилась еще в тринадцать лет, ее первым мужчиной, как она мне потом рассказывала, был кавказец лет пятидесяти, который пробудил в ней не просто женщину, не просто роковую женщину, а Великую Богиню… видимо, это был достойный учитель жизни и любви для маленькой Лолиты; я же и мечтать не смел о том, что это сокровище хотя бы заговорит со мной, оглядывая аудиторию, она, несомненно, заметила мои вожделенные взгляды, и поняла, раскусила меня, и я тоже понял, что она меня раскусила, увидела не просто девственника, краснеющего при самом незначительном разговоре с любой смазливой девчонкой, но и «хорошего мальчика» с нечистыми фантазиями; это было тридцатого августа восемьдесят первого года на первом собрании нашей группы; тогда в Техноложке был один из самых низких вступительных баллов в городе и все записные тунеядцы и бездельники устремились сюда, а не смотря на то, что я был «хорошим мальчиком», единственным ребенком в семье и предметом опеки мамы-папы-дедушек-бабушек-теть-и-дядь, я все же умудрился не стать прилежным отличником, а, напротив в школе слыл хулиганом – известная уловка маменькиных сынков, чтобы спрятать свое истинное лицо, и едва поступил в институт; и вот мы сидели и слушали куратора группы, который рассказывал об огромной ценности и важности выбранной нами профессии, его никто не слушал, а мы – пятеро парней ленинградцев уже наметили идти отмечать знакомство в «Старую Заставу», я все бросал на нее украдкой взгляды, краснея, когда она оборачивалась, она же смеялась, она почти всегда смеялась, сколько я ее знал, ее смех возбуждал и бесил меня с того первого дня, потому что тогда я ощутил, нет – не понял – понимание пришло чуть позже – ощутил, какая огромная пропасть между нами, и надежды – а они, конечно же были при первом взгляде на нее – надежды на что-то неясное, на какие-то призрачные платонические отношения, перемежающиеся ночными мастурбациями – надежды эти рухнули и остались только мастурбации – жадные, торопливые, болезненные, безнадежные… кто я был? – когда в школе учительница литературы дала нам задание читать вслух, распределившись по ролям, чеховскую «Чайку» - вы, наверное, сразу догадались, какая роль досталась мне? – конечно - Кости Треплева, воспевающего свою неземную любовь к Нине в образе Мировой Души, мальчика, так и не сумевшего повзрослеть, вечного заложника своей Великой и Ужасной Матери, а впрочем и не только своей, но и общемировой тоже, как и я… Толковательница, когда я рассказал ей этот эпизод, долго смеялась, что вовсе не полагается психоаналитику, но она смеялась, столь точным было это попадание в роль: ах, Александэр, синхронизм – хотя и величайшая тайна, но такие совпадения поистине неслучайны! – я пытался возражать, наивный, - Моя мама вовсе не была ужасной, она заботилась обо мне, уволилась с работы, чтобы воспитывать меня… - И, в результате – сделала из вас, Александэр, извините, кастратика, - Но… - Не возражайте, скоро вы поймете, почему я имею право говорить вам это, для вас любая женщина, женщина вообще была воплощением Великой и Ужасной. – И Катя? – Безусловно, и хотя она, в облике Великой и Ужасной Матери, да, дорогой мой, именно Матери в первую очередь, сделала для вас все, чтобы вытолкнуть вас на орбиту взрослой жизни, вы так и ухитрились остаться одержимцем, вы одержимы Великой Матерью, хотя во многом она, в облике Кати сделала вас мужчиной, сумевшим пройти войну и сумевшим принять любовь Великой Богини, а не только трепетать от ужаса и вожделения, - мне нечего было возразить тогда, хотя весь миф о Великой и Ужасной откроет мне Толковательница позже, а тогда в аудитории двести восемь на втором этаже главного корпуса Технологического Института, я изнывал от ужаса и вожделения, несмотря на все усилия скрыть это даже от самого себя…
6.
Наш гуманистический век пропитан ложью о всеобщем равенстве, о равенстве перед кем? – да, я не понимаю всю эту необходимость провозглашения прав и свобод! ибо на свободу нужно иметь не только право, прописанное в Конституции, – подлинную свободу дарует то самое право, которое опирается на действительную величину твоего фаллоса, - успокойтесь – фаллос не тождественен физическому члену, это уровень либидо, уровень, согласно которому и выстраивается «табель о рангах» человеческих взаимоотношений, ведь каждому, кто не хочет себя обманывать, прекрасно известно, что есть самцы, имеющие гораздо больше прав на твою самку, это инстинктивно чувствует и сама самка и только нормы морали могут сдержать естественный ход вещей, вызывая нарушения всех уровней бытия – от мировоззрения до физических болезней; «мы все глядим в Наполеоны», но это лишь амбиции, и горе тому, чьи амбиции не совпадают с уровнем энергии; ведь кем я был до того мартовского вечера, когда прозвучали заветные слова паршивки Кати, волшебное заклинание этой прекрасной, чудовищно прекрасной ведьмы: я сейчас без трусиков… - нет, не набьет мне эта магическая формула оскомину, ведь до нее я был жалким романтиком Костей Треплевым, нелепым Мальволио в желтых чулках с подвязками крест накрест, убогим Пьеро, и имя им – Омега, отщепенец, не имеющий прав на самку… он может писать оды, вздыхать под балконами и петь сладкозвучные серенады, но вот приходит Арлекин и, не говоря ни слова, овладевает Коломбиной, и она чует всем нутром своим, что Арлекину не нужны слова и рифмы, она просто обязана ему отдаться, и пускай Пьеро, если он совершенный идиот и не понимает, что его амбиции – лишь фикция, хоть даже и обоснованная каким угодно законом, бежит топиться или вешаться от горя, имя которому глупость и ложь; и у Пьеро есть шанс повстречать Коломбину-трамплин, попасть в минуту благости, а когда у нее бывают другие минуты? – на глаза Великой Богини, Великой и Ужасной Матери, которая сделает из него сына-любовника, и тут уж либо ты будешь использован и кастрирован, либо вступишь на лестницу, также ведущую на эшафот, но это эшафот, на котором приносят в жертву королей, альфа-самцов; в чем разница? – спросите вы, и я отвечу: в длине и, главное, красоте пути…
Женщина - это первая религия для мужчины, в которой первым его божеством становится Богиня-Мать, которую Толковательница иногда называла подавляющей силой бессознательного, имея в виду ее пожирающий, разрушающий лик, образ злой матери или покрытой пятнами крови богини смерти, чумы, голода, потопа, силы инстинкта или наслаждения влекущего к разрушению, в другое время она является совершенно иной, она предстает, как изобилие и достаток, она уже дарительница жизни и счастья, наивысшего счастья, которое только может изведать смертный, она - плодородная земля, рог изобилия ее плодотворного лона не имеет дна, она выражает инстинктивное знание человечества о глубине и красоте мира, великодушии и милосердии Матери-Природы, которая изо дня в день выполняет обещание искупления и воскрешения, новой жизни и нового рождения, - такой предстала мне Катя в парадной на Песочной набережной, несмотря на всю нелепость окружающего пейзажа: вместо фонтанов и павлинов – осколки бутылок и окурки, такой она представала мне великое множество раз, и я, ставши уже не омега, но гамма-самцом – как блестяще все-таки провела эту инициацию, этот перевод на новый уровень бытия моя богиня, впрочем в Средние Века подобных богинь сжигали сотнями тысяч, трусливые отцы церкви, эти несчастные омега и гамма самцы, типа Иоанна Златоуста, который написал однажды: «что такое женщина как не враг дружбы, неизбежное наказание, необходимое зло, естественное искушение, желательное бедствие, домашняя опасность, усладительный вред, зло природы, окрашенное в красивые краски», и даже многомудрый Пифагор, познавший гармонию сфер – и он боялся, произнося: «есть хороший принцип, который создал порядок, свет и мужчину, и есть плохой принцип, который создал хаос, тьму и женщину", - все они дрожали за свой фаллос, боясь оскопления, и невдомек им было, что фаллос – анонимен, что они лишь носители, но не властители его, ибо властительница одна во все времена; так вот, будучи уже гамма самцом, я, испытывая муки ревности и ненависти, ухитрился каким-то задним умом учуять, что она – не моя самка, она может лишь снизойти до меня, отдаться мне, как одному из многих, кому она дарила не только тело свое, но и любовь, она была волшебным существом; что бы я делал, не пройдя ее инициации уже даже в учебке под Ашхабадом, где прапорщик Кирилов, дай бог ему здоровья, гонял нас с ранцами, полными камней до изнеможения, мы матерились, мы желали, чтоб он сдох, садист поганый, ты ползешь на высоту, раздирая пальцы в кровь, истекаешь потом, сердце бешено колотится уже где-то за пределами тела, тебе нечем дышать и палящее солнце доканывает тебя, ты проклинаешь все и вся и прапора в первую очередь, но ты знаешь, что он, злобный, беспощадный, кричащий тебе, скорчившемуся в луже собственной блевотины, что ты дерьмо и ничтожество, - любит тебя, тебя лично, Господи! - сколько же в нем было любви, он так хотел, чтобы все мы, каждый из нас, чьи лица до сих пор, уверен, приходят ему во снах, и он, кадровый военный, плачет как мальчишка, вдруг осознавший хрупкость этого мира, затерянного в безбрежном Космосе, - он так хотел, чтобы все мы остались живы в той мясорубке, которая нас ожидала; я бы не выдержал и первого дня, я не смог бы понять Кирилова, да и многих других офицеров, прапоров и дедов, если бы она не любила меня, если бы она не подарила мне шанс, если бы не пустила в путешествие по взрослой жизни, ведь из института-то я вылетел и угодил в Афган тоже по ее милости, и мне посчастливилось не отвернуться от нее, не слушать голоса ревности, ненависти, справедливости и нравственности – я бы погиб, а спасся я и стал таки мужчиной и, надеюсь, человеком, слушая совсем другой голос, голос банальной похоти, голос Василиска…
7.
Я неизменно робел, встречая Катю перед лекцией, стыдливо опускал глаза, бормотал: привет, стараясь скорее проскользнуть мимо, я боялся своих запретных желаний, почему запретных? – да потому, что догадывался, только интуитивно, что желать ее – альфа самку, мне – омеге – не по рангу, она смеялась, в ее глазах неизменно был вызов и еще какое-то лукавство, но никогда в них не было презрения, как будто бы она прекрасно понимала, что со мной происходит, понимала, как заботливая мать; на этой стадии развития наших отношений, ведь они уже развивались и шли полным ходом, независимо от того, что между нами не случилось с первого дня учебы и до февраля, то есть, более пяти месяцев, ни одного более-менее продолжительного разговора, и кто придумал, что для отношений нужны разговоры? – мы пронизаны отношениями, важнейшими для нашей судьбы, для формирования наших ценностей, для глубочайшей палитры чувственно-интуитивного восприятия, насквозь, тысячами, сотнями тысяч отношений, даже с теми, с кем ни разу не встречались, и не встретимся, это могут быть не только живые люди, или даже исторические фигуры, но и выдуманные персонажи, герои книг и фильмов, сказок и мифов, которые стоят за всеми теми внутренними голосами и молчаливыми взглядами, с помощью которых мы оцениваем себя самих, не лишним будет даже сказать, что мы связаны отношениями, значимыми и эмоционально окрашенными, со всеми и со всем в Поднебесной; так вот, на этой стадии наших с Катей отношений, правил образ Матери Богини с Божественным Младенцем, - так рассуждала Толковательница, и у меня не было причин не соглашаться с ней, - в этой стадии, сотканной из моих вожделений, страхов и неловкостей, я являл нуждающуюся и беспомощную сущность ребенка, Катя же – защитную сторону матери, ее милосердие и всепрощение - за ними стояло нечто большее, чем простое понимание моей застенчивости: так в образе козы мать вскармливает критского мальчика Зевса и защищает его от пожирающего своих детей Кроноса, так Исида возвращает мальчика Гора к жизни, когда того кусает скорпион, так Мария защищает Иисуса, уберегая от Ирода, - для молодого бога Великая Мать является самой судьбой; такого рода связь, - говорила Толковательница, - наиболее ярко выражается в дочеловеческих символах, где Мать является морем, озером или рекой, а младенец – рыбой, плавающей в водах реки, озера или моря… вот вам и река, и рыбка, чем не идиллическая картинка? - маленький Гор, сын Исиды, Гиацинт, Эрихтоний, Дионис, Меликерт, сын Ино, и бесчисленное множество других любимых детей — все они подвластны всесильной Матери Богини, для них она все еще остается благодетельной родительницей и защитницей, молодой Матерью, Мадонной… - да видели бы вы эту целомудренную Мадонну на институтских вечеринках в общаге! – усмехался я, - ах, Александэр, вот тут как раз нет никакого противоречия: ваше эго было расщеплено, как минимум, на две части, младенческую и подростковую, и в то время, как подростковая искала любого удобного случая, чтобы испугаться, мудрость тысячелетий, запечатленная в ваших генах, подсказывала, что подростки, выбранные Матерью, в качестве своих любовников, могут оплодотворить ее, они могут даже стать богами плодородия, но фактически они остаются лишь фаллическими супругами Великой Матери, трутнями, служащими пчелиной матке, их убивают, как только они выполнят свой долг оплодотворения, так и любой влюбленный подросток предчувствует гибель, он должен будет умереть, Великая Мать убьет его, чтобы воскресить в качестве мужчины, однако последнее не гарантировано, поэтому страх подростка оправдан: его жертвоприношение, смерть и воскрешение – все это ритуальные центры всех культов жертвоприношений, а что, по-вашему, такое пубертатный кризис, как не своеобразное жертвоприношение? – пубертатный, но… - да, не удивляйтесь, он может быть растянут во времени вплоть до самой старости и ваше счастье, что с вами эта смерть и возрождение случились в семнадцать.. – восемнадцать, в марте мне было уже восемнадцать, - ах извините, пойдемте попьем чаю… и вот мы шли на кухню, и Толковательница заваривала индийский чай с какими-то травами, должен признаться, что удивительно вкусный и ароматный это был чай, и беседа под питье этого чая из настоящих узбекских, я так и не спросил – откуда она их достала, пиал, могла длиться часами, и ты этого не замечал, зато понимал с предельной отчетливостью, что критский младенец Зевс, вскормленный Великой Матерью в образе козы, коровы, собаки, свиньи, голубя или пчелы, рождается каждый год лишь для того, чтобы каждый год умереть; и голос Толковательницы убаюкивал, унося куда-то в доисторическое прошлое, туда, где человечество было девственно и невинно, несмотря на все кровавые жертвоприношения; мы пили чай неизменно при свечах, при многих свечах, я не считал, но мне казалось, что их всякий раз было не менее двадцати, они стояли в самых причудливых уголках маленькой кухни в ее квартире в старинном доме на Второй Линии Васильевского острова, тени язычков пламени, да и наши тени дрожали, и мое воображение вновь оживляло образы осени восемьдесят первого года, оно перепутывалось с голосом Толковательницы: так вот, ваше подростковое эго трепетало от священного ужаса, в то время, как ваше младенческое эго, подобно маленькому Гору, сыну Исиды, Гиацинту, Дионису, Меликерту, сыну Ино, подобно бесчисленному множеству других любимых детей, а попробуйте сказать, что вы не были любимы, младенческое ваше эго не знало еще никакого конфликта, для него Великая Богиня все еще оставалась благодетельной родительницей и защитницей, и как это ни странно звучит, действительно Мадонной… Я вспоминал глаза Кати, когда она отдавалась, таких глаз я больше не видел ни у кого, разве что у Маргариты, да и то не всякий раз, в глазах Кати, даже в момент самого пика наслаждения, а она могла при этом кричать и судорожно цепляться пальцами за простыню или что там попадет под руку, царапать мне, или кому-то еще спину, но в глазах ее не было ни боли, ни животной ярости, ни обиды, ни прочих атрибутов ненависти к мужчинам да и к миру вообще, которая преобладает у большинства представительниц прекрасного пола, Катины глаза неизменно улыбались и светились наслаждением, счастьем, благодарностью, любовью, душа моя оттаивала, и во мгновения созерцания этого сияния наслаждения, счастья и любви, исходившего из ее глаз, я прощал ее за все, за то, что считал тогда предательством, блядством, изменами, прощал, только вот прощение длилось, увы, недолго; Мадонна, Мадонна, шептал я, слушая Толковательницу и вспоминал те ядовитые чувства, которые испытал, когда в ноябре восемьдесят первого по курсу впервые пополз слух, распространяемый такими же, как я «хорошими мальчиками» с нечистыми помыслами, о том, что с Катей переспала уже половина факультета, не говоря уже о преподавательском составе, что-то во мне сопротивлялось этим слухам, а что-то, напротив, злорадствовало, подогревало во мне мстительные чувства ко всему, что связано с женщинами, все бабы шлюхи – вот какое убеждение мне хотелось отстоять для чего-то, видимо, и для того, отчасти, чтобы хоть как-то оправдать в своих глазах и глазах товарищей по несчастью участь омега самца; мы как-то стояли в институтском коридоре и обсуждали девчонок, обсуждали с видом надменным, будто познали уже жизнь во всех ее красках и, кажется, я тогда небрежно бросил что-то, типа: Катька-то? да она любому отдастся за три копейки! – и в этот момент случилось пройти мимо нашей троицы Пашке Чугунову, вот это был несомненно уже альфа самец! - тогда я этого, конечно же не понимал, но чувствовал его превосходство, хотя и ростом он был ниже меня и телосложением особым не выделялся, он услышал мои слова, подошел, сгреб меня за шкирку и глядя снизу вверх презрительно, процедил сквозь зубы: что же ты, сука, сам три копейки не заплатишь? жмотишься или трусишь? – потом совершенно серьезным тоном: еще услышу от тебя что-нибудь про Катюху – прибью урода! – за этими словами последовал короткий, не очень сильный, но отчего-то безумно обидный щелчок его кулака по моему подбородку, я мог бы дать сдачи, я превосходил его по силе мускулов, но я не сделал этого, и товарищи мои тоже стояли, пристыжено опустив глаза; Пашка не оглядываясь, удалился. Тут же вспоминается еще один подобный случай, уже в конце ноября, я, правда тогда помалкивал; это был мой первый выход в «свет», в нашу общагу, туда где вино и девочки, а я боялся не только Катю, но молодых женщин и девушек вообще, чувствуя себя неловко, я приготовился блеснуть красноречием и, преодолевая робость, рассказать что-то на мою излюбленную тогда тему о «летающих тарелках», в среде моих родителей ходили отксерокопированные самиздатовские книжки про всяческие диковинки; и вот передо мной уже небольшая комната, четыре кровати сдвинуты так, что получился Г-образный стол, на котором стоит нехитрая закуска: консервы, толсто порезанные куски колбасы и булки, и неизменный Портвейн, гонцом за которым был, в том числе и я; гонец приносил внушительные сетки, наполненные вожделенным пойлом, но оно в течение часа заканчивалось, посылали нового гонца… все было так непривычно, я много пил, чтобы не сбежать, молчал, потому как встрять в общий гомон было и трудно и неловко, что там мои «тарелочки»… ребята из общаги держались поувереннее, в комнату умудрились втиснуться человек двадцать пять, некоторые парочки сидели в обнимку, кто-то целовался, иные пары выходили и возвращались через минут двадцать раскрасневшиеся, я смекал, что к чему, пил еще больше, становился еще угрюмее - все это было мне не по плечу; Катя была среди нас всего полчаса, я боялся встретиться с ней взглядом, а потом она внезапно исчезла; из соседней комнаты долго раздавались стоны и крики, скрип кроватей: что у вас там происходит? – поинтересовался кто-то из ленинградцев, чуждых атмосфере общежития, ему ответил Жорка Артамонов, который изрядно уже «принял на грудь»: да это Конь с Вовчиком Катьку дерут! – он хотел, было увенчать эту реплику скабрезным смешком, но не успел: тот же Пашка Чугунов мгновенно оказался рядом с ним и с размаху въехал Жоржику кулаком по чайнику: сверху вниз загасил, Жоржик сполз на пол, оглушенный ударом, без единого звука, на минуту воцарилась тишина, потом опять полилось разливанное море Портвейна, а тут еще и водочку принесли, веселье продолжалось, на тему Катиных похождений было наложено однозначное табу, а я – несчастный Пьеро, - выскочил из комнаты и бросился к выходу из общаги, едва сдерживая слезы, я ведь был влюблен в нее, и все эти слухи про «три копейки» - я не верил в них всерьез, я до того лишь рисовался перед дружками, такими же маменькиными сыночками, а тут в ушах моих стоял стон ее наслаждения, да еще, судя по словам Жоры, уж он-то был в курсе жизни общаги, - наслаждения сразу с двумя – прыщавым Конем и долговязым Вовчиком; первой моей мыслью было броситься под колеса трамвая, вместо этого, отрезвленный холодным осенним ветром, я поймал такси и поехал домой, плакать и отчаянно мастурбировать, я еще долго буду поступать подобным образом, и что же это была за Мадонна? – была, была она Мадонной, чистой, невинной, любящей, понял я это в тот вечер при свечах у Толковательницы и снова плакал, но были это уже другие слезы, слезы исцеления и прощения, я ведь себя простил тогда, прежде всего…
8.
Тем мартовским вечером восемьдесят второго года мы шли с Катей от Песочной набережной по улице профессора Попова, свернули на Вяземский, затем на Карповку, мы держались за руки, это было так трогательно и наивно, я даже стеснялся редких случайных прохожих, вот детский сад какой-то, казалось мне, город засыпал, а мы оба забыли, что в этот совсем еще не теплый вечер мы оба налегке, ее плащ и моя куртка так и остались висеть в гардеробе Дворца Молодежи; отправляясь в армию я взял себе тот номерок как амулет, как память об этой чудесной и злой ночи, которая так резко изменила мою судьбу; до набережной Карповки я шел молча, она улыбалась и бросала на меня озорные взгляды, иногда останавливалась и подставляла свои влажные, чуть припухшие губы для поцелуя, целовался я неумело и несмело, и несмотря на близость, уже случившуюся между нами, был робок и намеков не понимал, а она все равно смеялась и подбадривала: ну что же ты, целуй меня, экий вы, сударь неловкий кавалер, да ладно, ладно… вот ведь мерзавка! я и так не знал уже куда деваться, меня переполнял восторг, влюбленность, даже какая-то удаль и ощущение геройства, но так же и ревность, жгучая, острая до едва выносимой боли ревность, ведь вот таким же образом она, моя возлюбленная, отдавалась кому попало, для нее, небось, что я, что любой другой – все на одно лицо, а может она просто пожалела меня или играла как с несмышленышем щенком? – мой мозг взрывался, не в силах выдержать всей этой пляски противоречивейших чувств и мыслей, в миг поцелуя я вновь растворялся, вновь все мысли и противоречия не имели значения, но вот наши губы размыкались и я хотел сказать, что я люблю ее, но это желание разбивалось вдребезги о скалу болезненного, да не просто болезненного, а обнаженного до голых нервов самолюбия; происходящее не укладывалось ни в одну из известных мне тогда схем взаимоотношений между юношей и девушкой, все сценарии были наглым образом взломаны, все святое в один миг испошлено, душа корчилась в агонии, я даже не чувствовал холода, я почувствовал его лишь когда мы вышли на Карповку и остановились: Катя вновь подставила губы, и в этот раз я поцеловал ее уже не робко, а как-то даже зло, мстительно, она, видимо чувствовала, что происходит со мной, она не отпустила меня, меня нельзя было отпускать в ту ночь: вот тогда я мог действительно броситься с моста или угодить под машину; она удержала меня: обними меня, Сашка, мне холодно – другие слова в этот момент не сдержали бы меня, я бы убежал в ночь, в ничто, в смерть без возрождения, тут же, как хороший мальчик, я обязан был ее согреть, я снял пиджак, укутал ее плечи, неуклюже обнял ее – руки, да и все тело мое были каменными, я всем видом, всем состоянием показывал ей, что мне стыдно за то, что случилось, стыдно быть рядом с ней, стыдно обнимать ее продажное тело сучки, в голове кипели сотни обидных слов, ругательств, возгласов недоумения, вопросов, и где-то под спудом всего этого – признание в любви, которое она так никогда и не услышит от меня. Я, несмотря на холод и озноб, а тут еще заморосил мелкий дождик, ощущал близко ее пьянящее дыхание, упругое тело, вспоминал минуты сказочной близости и предательская плоть брала свое, я пытался отодвинуться, но она прижалась еще крепче, и мне, ко всему прочему стало еще и неловко… Ты хочешь еще, милый? – слово «милый» царапнуло по душе бритвой, ни одна девушка еще не называла меня так, но именно она, я уверен, называла милыми сотню, а то и больше парней; вспомнился разговор с приятелем после новогодних праздников, он спросил тогда: что бы ты сделал, если бы влюбился, стал бы гулять с девчонкой, а потом узнал, что до тебя у нее уже кто-то был, ну со всеми делами? – тогда не раздумывая, я ответил: бросил бы ее тут же – не нужна мне блядь! – о, какой невинной мне предстала эта ситуация, по сравнению с той, в которую я вляпался… конечно, я хотел ее, безумно хотел еще и еще, но разве мог я тогда честно ответить «да»? – вместо этого бесхитростного ответа я промычал: но ты же меня не любишь! у тебя ведь были парни до меня, я знаю! - это вот я знаю должно было, как мне казалось, прозвенеть, как пощечина, я вложил в это я знаю всю обиду, всю ревность, и слава богу, что вложил, что сделал этот выстрел, мне стало легче, а она не только что не заметила, нет, не заметить мою интонацию эта потрясающая девушка, эта умничка не могла, она пропустила эту энергию мимо, не возвращая ее мне обратно, она позволила мне этот маленький катарсис, хотя катарсисом это можно назвать лишь в насмешку, я чуть-чуть выпустил пар и за счет этого не взорвался, Катя же опять рассмеялась, но ее смех не был насмешкой над моей глупостью, над моей броней оценок и суждений, ее смех был разрешением для меня быть таким, как я есть, это был акт любви, да и слова произнесенные ею затем, хоть и ввергли меня в ступор, но дошли до какой-то крохотной моей частички и это было залогом спасения, залогом того, что несмотря на шок, на крушение всех ценностей и идеалов, душа моя приняла решение все-таки жить, как и много раз позже: милый мой Сашка, да разве бывает секс без любви? – и, видя мое недоумение и готовность горячо возражать, прижав пальчик к моим губам: запомни, запомни крепко – секс без любви невозможен, скоро ты поймешь это, как и я поняла однажды, а я люблю тебя, люблю и хочу… нет, не скоро пойму я это, лишь через десять лет, да и то с помощью Толковательницы…
9.
«Все, все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимы наслажденья – бессмертья, может быть, залог! И счастлив тот, кто средь волненья их обретать и ведать мог»… Я обретал и ведал гибельное наслаждение, моя учительница раскрыла во мне эту способность, а скажу, что способен на это далеко не каждый, и я видел, как погибали пацаны за «речкой», погибали именно потому, что были не способны насладиться великими, сладостными и страшными дарами Великой Богини: сексом и смертью, точнее, близостью смерти, не способны были вкусить пьянящее безумие кровавой резни, позволить впустить в свое сознание доисторическое упоение при виде груды трупов, кровавого месива, состоящего из искореженного металла, грязи, рваного мяса и обугленных костей - защиты нашей психики удивительно прочны, и лишь тому, кто изведал безумие сексуальных оргий, доступны такого рода переживания, которые наш «гуманистический» век назвал бы извращением, потому и фразу классика «есть упоение в бою» мы воспринимаем как нечто, безусловно романтическое, но не имеющее касательства лично к нам; там, за «речкой» ты либо был готов к этим сомнительным, с точки зрения здравого смысла, наслаждениям, либо отправлялся на Родину, закованный в цинк, я вспоминаю паренька из нашей роты – Леньку-Кирпича – мы сопровождали танковую колонну и один танк напоролся на мину, понятное дело, что внутри кабины было месиво, и вот собирать останки летеха Фомичев послал Леньку, послал, чтобы обкатать новичка, но ошибся летеха, это через пять минут было ясно всем, кто пробыл в Афгане хотя бы пару месяцев, Ленька-Кирпич вылез из раскоряченной башни танка, держа в руке часть черепа, в котором каким-то непостижимым образом застыл удивленный глаз, Ленька был весь зеленый, неестественно замедленный, летеха бросился к нему, раскурил травку, но тот и затянуться как следует не мог: все, отвоевался! – угрюмо произнес кто-то из дедов, и я тоже видел, что Кирпич подписал уже себе приговор, принял решение уйти, да-да, человек всегда подписывает свой приговор сам и только сам, а снайпер, который вечером того же дня, когда мы попали в засаду, пробил не кому-нибудь, а именно Леньке грудь, лишь привел этот приговор в исполнение; и пусть за год моей службы я сталкивался с упоением боя и наслаждением от крови лишь три раза, я был открыт первобытному инстинкту, я выжил, я хотел жить, эту жажду передала мне Катя, и не случись она в моей судьбе, приговорил бы и я себя еще в учебке или в Кабуле, где хоть и было поспокойнее, чем в Герате, но случаев попасть в расход было предостаточно, и я видел, я знал, как это происходит, еще там, в восемьдесят третьем; позже Толковательница научила меня не только видеть, но и уважать древнейшие инстинкты, я спрашивал у нее: зачем вы уделяете столько внимания никому уже не нужным в наш цивилизованный век инстинктам, всему звериному, что уже давно побеждено культурой и просвещением?- ее ответ были резким, как пощечина, так описавшегося в квартире щенка макают мордочкой в его же лужу: - не лгите хотя бы себе, неужели вы не чувствуете, сколь обманчиво тонок пласт этой самой культуры? – и когда я, насупившись, ибо чувствовал, что да – вру, пытался защищаться, она, видя, несомненно, что я запутался и морочу сам себя, добавляла уже с издевкой: - на чем держатся эти убеждения? на трех китах и черепахе, хе-х… кто из нас может твердо сказать, что ждет нас если даже не завтра, то через несколько лет? и я не знаю этого, знаю лишь, что если и суждено пройти нам когда-нибудь через семь трубных гласов, то в числе тех самых ста сорока четырех тысяч праведников, о которых сказано у Иоанна, восставших для жизни новой, по иронии судьбы, а поверьте мне, она-то женщина не просто ироничная, но до неприличия озорная, окажутся лишь те, кто изведал запретный плод неизъяснимых наслаждений, о которых прозорливый Александр Сергеевич писал почти двести лет назад… - я удивлялся: Эмма Робертовна, вы верите в апокалипсис? - не в этом дело, Александэр, я просто вижу как людям нравится обелять себя, выдавливая лучшее в себе, что они как раз считают худшим, их так научила культура, в Тень, в бессознательное, подобно идиоту из бородатого анекдота, который решил в целях чистоты и гигиены не какать, а стоит лишь чуть зашататься какому-нибудь столпу дурацких убеждений и верований…, а даже круглому дураку ясно, что к тому идет…, - и я понимал, как легко подписать себе приговор, как это сделал Ленька-Кирпич и многие еще, даже не в столь драматичной ситуации, а при самом банальном событии, типа дефолта или даже незначительной смены общественного строя, мы ведь все ужасно избалованы иллюзиями безопасности, защищенности социальными законами и прочей хренью… а Толковательница продолжала, такой возбужденной я видел ее крайне редко: - я не устаю поражаться милости Великой Богини, дарующей шансы всякому, кто готов их взять, вы видите, как с каждым годом падает планка морали и нравственности? – и что делать? – я не понимал куда она клонит, - радуйтесь! – чему же радоваться? – тому, мой дорогой, что это шествует Великая Богиня, готовая подарить жизнь всем, кто не цепляется за установившиеся нормы; и вот, спустя пятнадцать лет после этого разговора, я пишу о том, как верный слуга Великой и Ужасной Богини – Василиск, этот демон похоти, подарил мне не просто жизнь, но Жизнь при жизни, позволил упасть на зловонное дно души своей, выползти из шкурки «хорошего мальчика», познать счастье и причастность бытию во всей его противоречивости, сложности и простоте; я никого не зову за собой, вспоминая боль, с которой обрушивались мои верования, невыносимую боль, которую причиняла и которую врачевала обыкновенная потаскушка, блядь и жрица самой Жизни – Катя; не стоит проходить мимо этих жриц (я не имею в виду проституток, отдающихся лишь за деньги, в них нет жажды жизни, жажды фаллоса), ибо только они, а не «хорошие девочки», которые будут вам верны всю жизнь, но зачастую грош цена этой верности, построенной на лжи своей природе и самой Природе, - только они, жрицы, подобные Кате, умеют любить и не тянут из любимых ими мужчин соки, они дарят им себя, дарят свободу, страшную свободу, которую побаивался даже сам Одиссей, что уж говорить о нас – бедолагах; я до сих пор не знаю, чем обязан Великой и Ужасной за ее дары – свободу и вседозволенность - теперь я могу говорить о них - ведь именно свобода и вседозволенность, «сила низости Карамазовская» пугала меня больше всего на свете до того злополучного года, как я спутался с Катей, когда вагончик жизни покатился под уклончик, покатился, чтобы набрать ускорение и, в конце концов, выбросить меня из пут обусловленности…
10.
Что бы там ни было, но после первых нескольких встреч с Катей мне пришлось встать на горло собственной ревности и самолюбию, она однозначно дала мне понять, что исключительно моей она никогда не будет, да и с какой стати? - сейчас я с усмешкой вспоминаю свои терзания, то, как я доводил себя до невменяемости, самоуничижения, близости к суициду, мы были абсолютно в разных категориях, я только что оперившийся мальчишка, делающий первые шаги в самостоятельную жизнь и она, почти королева, способная увлечь и свести с ума любого самого матерого мужчину; удивительно другое: почему, имея столь широкий выбор, а окружали ее действительно шикарные мужчины, это я сейчас понимаю, она в течении почти семи лет носилась со мной так, как будто я был ее сыном или любимым учеником, все остальные ее связи были кратковременны и не продолжались дольше одного-двух месяцев, не говоря уже о великом множестве однократных связей; зачем пустилась она за мною в Афган и потом еще несколько лет мыкалась вдали от Родины, только чтобы я не пропал на чужбине, у нее-то были все шансы прекрасно устроиться где бы она не пожелала; Толковательница говорила о том, что Катя, как и положено Великой Богине, путешествовала за фаллосом, но если фаллос анонимен, его можно найти где угодно, тут явно была какая-то загадка, которая и Толковательнице была не по зубам, и хотя она предлагала еще ряд версий, все они казались мне неубедительными, разве что про нарциссизм любовников Великой Богини… Суть этой версии заключалась в том, что все любовники Матерей Богинь во всех древнейших мифологиях имели общие черты: все они юноши, красота и привлекательность которых так же поразительны, как и их нарциссизм, они — нежные цветки, символически изображенные в мифах как анемоны, нарциссы, гиацинты или фиалки, которые наша явная мужская патриархальная ментальность более охотно связала бы с молодыми девушками; единственное, что мы можем сказать об этих юношах, каковы бы ни были их имена, - это то, что они доставляли удовольствие любвеобильной Богине своей физической красотой, хотя, в противоположность героическим персонажам мифологии, они лишены силы и характера, им не доставало индивидуальности и инициативы, они во всех отношениях являлись услужливыми юношами, нарциссическое самоочарование которых очевидно, и все это было действительно про меня, без ложной скромности скажу, что я был действительно красивым юношей, и внешность и сложение были в мою пользу, что уж говорить про нарциссизм! - если бы не Афган и все дальнейшие скитания, можно было бы довольствоваться объяснением этого мифологического сюжета; да Толковательница очень во многом попадала в десятку, в этом же вопросе даже ее видения, таланта и опыта не хватило. Мне кажется, что ближе всего к разгадке подошел Дед, я еще расскажу о нем подробнее, Дед был далек от мифологических аллюзий, он предположил, что будучи представительницей чистого авантюрного сознания - а он и сам был таковым – Катя, обладая удивительно тонкой интуицией, каким-то непостижимым образом почуяла, что в моем лице, а точнее, в моей судьбе ей подвернулась достойная структура приключения; в конце концов, что привлекло Остапа Ибрагимовича в несуразном Кисе Воробьянинове? – узнав тайну сокровища, Бендер вполне мог успешно действовать в одиночку и его довод: «вы меня интересуете лишь постольку, поскольку я хочу обеспечить вашу старость» звучит лишь для отвода глаз, он находит в Кисе ученика, и, как это ни странно, ученика весьма талантливого, способного сняться с оседлого образа жизни, пройти многочисленные ломки личности и в конце, как и подобает достойному ученику, перешагнуть через труп учителя, убив Бендера-Отца, а возраст в символическом пространстве не важен; в символическом пространстве, когда ученик готов, он убивает будду, что и сделал Воробьянинов, а его финальный вопль возвещает о полном и окончательном просветлении, которое в романе преподнесено, как сумасшествие; слишком натянуто – скажете вы? – перечитайте «Двенадцать стульев» внимательно и вы найдете там все этапы ученичества, инициаций и посвящений; вот так и Кате попался достойный ученик, я ведь тоже стал трамплином для многих женщин, многие из которых так об этом и не подозревают, впрочем это уже не моя забота, точно также, как и Катю не заботило, понимаю ли я все, что она проделывала со мной в символическом пространстве, я думаю, что она и сама не сознавала этого. Она просто любила, любила, как немногим это дано – безжалостно и самоотверженно, но меня так и терзает загадка, чем заслужил я подобную любовь…
[1] Дух – так воины-афганцы называли душманов.
Я, казалось, уже давно забыл этого человека… Мы вместе учились в институте на первом курсе. Это был поначалу очень тихий, робкий мальчик, старавшийся казаться незаметным. Однако весной что-то резко поменялось в нем, он целыми днями пропадал, не появлялся на лекциях, иногда я видел его нетрезвым… В группе ходили слухи о его бурном романе с одной нашей однокурсницей, которая вела весьма легкий образ жизни.
Саша даже не явился ни на один экзамен летней сессии. Его дальнейшая судьба мне была неизвестна, хотя кто-то из знакомых говорил, что по слухам Саша попал в армию, в Афганистан… По крайней мере, в списках второго курса его фамилия уже не значилась, и я его больше не видел… Вскоре исчезла и перестала появляться в институте и его подруга…
Эта история, ничем особенно не примечательная (тогда из института было отчислено еще несколько человек, в том числе два моих близких друга) так бы и забылась окончательно, если бы более чем через двадцать лет, в феврале 2007 года Саша не написал мне письмо – он нашел мой адрес в Интернете – с предложением встретиться. Я ответил неохотно, тем более, что я мало с ним общался даже в институте, несколько раз переносил встречу под разными предлогами. И все-таки нам суждено было увидеться в конце февраля. Саша пришел ко мне домой. Я не узнал в крепком и, как я сразу отметил своим взглядом профессионального психолога, видавшем виды мужчине того хрупкого паренька, каким я его когда-то знал.
Встреча наша длилась не долго: Саша рассказал, что нашел в Интернете информацию о моих книгах, две или три из них прочитал и решил передать мне свои дневники, записи разных лет – несколько блокнотов:
- Возможно тебе, как писателю, будет интересно сделать из этого, - Саша указал на блокноты, - небольшую повесть…
- Да какой я писатель! – рассмеялся я, - просто начинающий литератор-любитель, напечатавший несколько книг маленькими тиражами.
- А для этих материалов и не нужны большие тиражи и массовая аудитория. Мало кто поймет то, что происходило со мной за эти годы, зато те немногие, в ком это найдет отклик, возможно, будут благодарны за твой труд. Ты погоди, Влад, - он прервал возражения и попытку отказаться, которые готовы были уже сорваться с моих уст, а я, в свою очередь отметил, что он хорошо разбирается в настроении собеседника, - не торопись, никаких обязательств мне не нужно. Пролистай, присмотрись, и если почувствуешь желание – напишешь, а нет, так нет, я в обиде не буду. Мне эти бумажки больше не нужны. В конце концов, можешь выбросить на помойку.
- Хорошо. Но тебе-то зачем нужно, чтобы события твоей жизни и твои мысли были растиражированы?
- Так это не мне нужно, - усмехнулся Саша, - и в его глазах заблестели озорные искорки, - это вам нужно…
- Кому это – вам?
- Тебе, судя по тем твоим книгам, что я прочитал, да и еще многим, хотя бы тем, кто тебя читает. Это тема для тебя, Влад. Когда я писал дневники, я не собирался их публиковать, у меня даже мыслей таких не возникало, но вот когда нашел тебя и почитал, понял, что здесь ты найдешь как раз то, что искал. Измени только имена и кое-какие детали. Можешь даже не печатать, просто почитай для начала.
И он ушел, отказавшись оставить свой телефон. Страничка на сайте «Одноклассники», с которой он отправлял мне предложения о встрече, как я недавно обнаружил, удалена.
Меня охватило любопытство, когда Саша сказал, что я могу найти здесь то, что искал, о чем писал и до чего так и не доискался. Я начал перелистывать блокноты и постепенно меня захватили эти хаотические записи; жизнь и мысли моего институтского знакомого взволновали меня настолько, что я не спал в ту ночь. А на следующий день меня уже занимала идея – в какой форме изложить записи Саши, прерывистые, хаотичные, но написанные будто оголенными нервами? В конце концов, я пришел к выводу, что изложение можно построить в виде «потока сознания»… Несколько дней я вживался в образ, а затем «поток сознания» хлынул – только успевай записывать. Я написал повесть на одном дыхании, изменив имена и название института, немного подвинув даты, добавив кое-какие рассуждения от себя (Саша, давая мне дневники, даже просил не ограничиваться только его материалами). Сейчас, когда повесть окончена, я понял, почему Саша, психолог, как оказалось, еще более тонкий, чем я, заранее знал, что я обрету много больше, чем я мог ожидать. Несколько недель, когда я ежедневно (точнее еженощно) писал повесть, я был счастлив, жил здесь и сейчас, испытывал то возвышенное чувство, которое Карлос Кастанеда назвал «переживанием ужаса и одновременно восхищения от того, что ты – человек». Я искренне благодарен этому человеку, который, будучи одним из многих (Das Man – как презрительно назвал человека толпы Мартин Хайдеггер), обрел Подлинное Бытие (Dasein).
Я и раньше задумывался о том, что путь к целостности, путь индивидуации, очень часто начинается не с поисков гуру или занятий какими-то специальными эзотерическими практиками, отнюдь, этим можно заниматься безо всякого толку десятилетиями, и я очевидец сотен подобных примеров; а начинается настоящий путь часто с какой-нибудь нелепицы, даже, как может показаться, пагубной ошибки… Классическая литература дает нам множество подобных примеров: так Фауст, подписав договор с Мефистофелем, пускается во все тяжкие; так король Лир, начинает с нелепой прихоти тирана – приказа дочкам выразить свою любовь к нему и, пройдя через отрезвляющее безумие, сам обретает любовь; так Дон Гуан, дурачества ради, приглашает статую Командора в дом его вдовы, где собирается соблазнить ее, и интуитивно понимает, что отступать теперь уже нельзя, открывает себя Донне Анне, превращаясь из искателя легких приключений в человека, который впервые полюбил и преобразился… Эти сюжеты стали классическими, так как они отражают некие архетипические особенности созидания души.
В истории Саши происходит нечто подобное: его наставницей становится женщина легкого поведения, как это кажется на первый взгляд, и стоящий за ее образом демон похоти Василиск… Впрочем, я забегаю вперед… Я буду рад, если кто-то из читателей сможет, как и я, в сюжете далеко не самом нравственном, разглядеть величие и красоту судьбы человека, а может быть и общечеловеческой Судьбы.
Владислав Лебедько
Часть 1.
«Поэтому каждый из нас любит жить для себя и держать в укрытии самих себя, как собственных мирных животных. Лишь иногда мы делаем робкий глоток, отпивая от другого человека, который уверяет, будто его переполняет сладостное желание. Но уж если действительно пожелаешь чего-нибудь, то получишь это не от него».
Эльфрида Елинек «Похоть»
1.
Она любила меня…
Я ее хотел, ненавидел, ревновал, восхищался ею, благодарил, но более всего ненавидел и столь же сильно хотел, жаждал обладать ее всегда доступным, но не всегда для меня, телом, столь женственным, пьянящим, дурманящим и при одном лишь взгляде сводящим с ума; ее тело было разменной монетой в самых разнообразных случаях, от сдачи экзамена до перехода государственной границы и вызволения меня из плена; впрочем, она не только платила им, но и получала, получала бездну наслаждений от своей сексуальности, властности, необузданности, отдаваясь бескорыстно и корыстно, трогательно-нежно и бешено-разъяренно, отдаваясь всякому, кто желал ее и всякому, кого желала она; боже как часто это происходило на моих глазах, происходило ради меня, я готов был убить ее в эти минуты, даже зная, что погибну сам, я готов был отдать жизнь за то, чтобы насладиться ею до, после и вместо кого бы то ни было, она играла мною, она играла собой, она играла огромным множеством мужчин, а иногда я видел ее плачущей, уставшей от этой бесконечной игры; заметив на себе мой взгляд, она переходила от плача к смеху, смеху призывному, и глаза ее блестели как у дикой кошки, и она снова отдавалась мне или кому-то еще, какая разница, логика перебора ею партнеров была непостижима, за исключением разве тех моментов, когда она рисковала собой, спасая мою жизнь… она любила меня… Впрочем, с той поры, которая связала наши судьбы в причудливый, но тугой узел, до сих пор сдавливающий мне дыхание, когда я просыпаюсь, пусть уже давно с другими женщинами, просыпаюсь от несказанно сладкого сна о ней: я сейчас без трусиков хочешь потрогать? – слова, которые впервые лишили меня рассудка, хотя, вероятно, это произошло на полгода раньше… с той поры прошло уже почти двадцать пять лет и я не могу гарантировать того, что множество раз в своем воображении я не переписал и не отредактировал, всякий раз с новыми акцентами, всю историю нашей связи, так уж устроен человеческий ум, он непрестанно редактирует прошлое, настоящее и будущее, особенно прошлое, которое не существует само по себе, мы создаем его из разрозненной мозаики воспоминаний, составляя новые узоры, с иной освещенностью, перспективой, щедро добавляя или убирая краски, сдвигая композицию и меняя местами фигуры и фон… она любила, когда ее желали… она любила, когда ее желали?... она любила, а ее желали… она желала… двадцать пять лет могли переставить акценты в подспудном желании завершить множество незавершенных мотивов, примирить противоречивые чувства, заставить себя уверовать в наименее болезненную версию событий, или все-таки, наиболее болезненную, доставляющую и сейчас мне ту изрядную долю мазохистского наслаждения, которое я, признаюсь, испытывал, оказавшись невольным свидетелем того, как она отдавалась другим мужчинам или просто зная, даже догадываясь об этом, мне никогда уже, видимо не понять ее мотивов, я могу продолжать пытаться их истолковывать как угодно, с бытовой, психоаналитической, трансперсональной или экзистенциальной точек зрения, все это пустое… все, что мне доступно, это хоть как-то понять и принять свои чувства к ней и мотивы, и это именно то, ради чего я пишу эту рукопись. Я сейчас без трусиков хочешь потрогать?.. глупые слова взбалмошной шлюшки, нарывающейся на очередное приключение, тем не менее, этим словам, пронзившим мою судьбу, я обязан тем, что жив до сих пор, тем, что остался невредим, пройдя год войны, несколько недель плена, да и еще много всякого… когда смерть подходила совсем близко несколько раз, именно ее тело без трусиков оказывалось нитью Ариадны, выводящей меня из мрачных лабиринтов подземных пещер Аида, в которых обреченные дожидаются билета в один конец. Она все-таки любила меня, я же ненавидел, жаждал, ревновал, пресмыкался, но более всего, как я понимаю это уже сейчас, завидовал, да – именно завидовал ей, свободной начинать почти каждый день новую жизнь, действительно новую, будучи уже не той, что вчера, меняясь от партнера к партнеру, в ее податливом и недоступном разве что для ленивого, теле, душа претерпевала перерождения, ее суть была неуловима, ее жизнь была Путем, а не оседлым прозябанием одной и той же субстанции, неважно, скучает ли эта субстанция у телевизора, лениво переключая программы, совершает ли пробежки в парке по одному и тому же маршруту из года в год, просиживает ли штаны в офисе, а я тогда, почти двадцать пять лет назад переборол-таки робость домашнего мальчика и потрогал ее, вонзил дрожащие пальцы туда, где без трусиков, где жаркая липкая влага оросила не только руку, но все существо мое огненным сумасшествием, и сейчас, сколько бы раз мой ум не редактировал все, что случилось со мной с той поры, сколько бы раз не смещал акценты в самые противоположные полюса, не жалею об этом, впрочем, что бы ни было, а вот не жалел я об этом никогда. Она любила меня, как это парадоксально не звучит, я же до сих пор не знаю, любил ли когда-нибудь ее или кого-то еще.
2.
Она никогда не говорила про любовь, она просто любила…
Позже, в начале девяностых, Толковательница, а затем, еще пятью годами позже, Дед, помогли мне понять это; ох уж эта Толковательница: сколько гнилой моей крови она выпустила, а ведь появилась однажды в девяносто втором году на вечеринке, где пили уже не «Портвейн», как в семидесятых и восьмидесятых, а разноцветные «Амаретто», отраву еще большую, чем спирт «Рояль» в литровых бутылках с красными пробками; Толковательница тогда подошла ко мне, пьяненькому, мрачно опершемуся на кулак и пребывающему вне времени, а может быть и в неком времени, где-то в скалах неподалеку от Герата, где пожилой дух[1] последний раз в своей жизни отправил семя в лоно той, что любила меня и спасала меня; Толковательница – так я звал ее потом, и так ее звали многие, подошла ко мне – я до сих пор не могу взять в ток – как она могла оказаться на той вечеринке, эта гордая пожилая (а было ей тогда уже за семьдесят) сухощавая высокая женщина с аккуратным узлом седых волос и неизменной громадной брошью; она заботливо поправила воротник моей рубашки, улыбнулась так, как могла улыбаться только она – одними морщинками возле глаз, у нее были удивительные глаза, в которых можно было затеряться, утонуть и выплыть в совершенно неожиданном мире; кажется она сказала тогда: как тебя зовут, одержимец? – да, именно одержимец, и это было ее первое из многочисленных попаданий в десятку – я моментально протрезвел: Саша, она вновь улыбнулась глазами: а, Александэр! – она так и будет потом меня звать, с ударением на эр… и я окунулся в ее зрачки, они вытащили меня оттуда – из-под Герата, они еще много раз потом вытаскивали меня оттуда; да что же произошло там под этим самым Гератом? – спросите вы, и я отвечу, что это очень долгая история, что нужно обо всем по порядку, впрочем, зачем по порядку? – так говорила и Толковательница, - просто расскажи… - хорошо, Эмма Робертовна (она была обрусевшей немкой, психоаналитиком… очень необычным психоаналитиком; позже, изучая психологию, я понял, что Толковательница сочетала то, что не сочетает уважающий себя профессионал – странная фраза «уважающий себя профессионал» - Толковательница была выше, чем просто профессионал, она уважала и себя и тех, с кем общалась, и тех, кто составлял ее внутренний мир, и при этом сочетала взгляды Фрейда, Юнга, Лакана, Делеза и еще многих в своей работе – я пишу «в работе», понимая, что это и не работа вовсе, ибо она была вне всяких правил и норм того же психоанализа, да и не только…), хорошо, я расскажу… - вот и славно! она уселась на диван рядом со мною, положила свою теплую сухую ладонь на мои пальцы, стало тепло и тихо, и гости как будто растворились, мы были одни в плавно раскачивающейся комнате, и можно было говорить ВСЕ, я никогда ранее не знал, что такое бывает, что нет никакой нужды что-то удерживать в себе, проворачивая тяжелые мысли по кругу в изъеденном алкоголем и «травкой» мозгу, упрямо, назло всему миру – не было нужды в этом! и я расплакался, а Толковательница просто сидела рядом и слушала, как я плачу; это редкий талант – слушать, как человек плачет, потому, как каждый плачет по-своему и о своем, и чтобы принять его слезы, недостаточно сидеть просто отрешенно, безмолвно изображая сочувствие, необходимо понять мелодию этих слез; Толковательница поняла, - как она это делала, я не знаю до сих пор, но тогда, вслед за слезами прорвался поток слов, предложений, описаний, жестов, интонирований – я снова погружался в лето тысяча девятьсот восемьдесят третьего, и рука Эммы Робертовны загадочным образом вытаскивала меня оттуда, нет, еще не полностью, слишком глубоко увяз я в горячих песках этого лета, Толковательнице потребуется несколько месяцев, чтобы извлечь меня оттуда полностью… горячий песок, горячие скалы, жара за сорок,.. я валяюсь со связанными руками на песке, грязный, оборванный, вонючий, впрочем, все это меня не волнует, меня не волнует даже голод – кормят меня уже который день – счет дням я потерял – может неделя, а может и месяц, - куском черствой лепешки один раз в день, да парой глотков воды из фляги, я тупо жду когда меня убьют, но почему-то они медлят, в этот полдень со мной только один дух с проседью в широкой бороде, остальные пятнадцать или сколько их там душманов ушли, видимо на операцию… дух лениво отхлебывает из фляги и, встретив мой просящий взгляд, также лениво пинает меня ногой. И тут из-за скалы является видение – она, прошу прощения, я так и не назвал ее имени, неужели я все еще, несмотря на усилия Толковательницы и Деда, боюсь или, может быть, стыжусь? ее имени, ее звали Катя, простое имя, но я долго еще избегал женщин, которые носили это имя… Я закрываю глаза и вновь открываю их, но видение не пропадает, потом, позже я напишу еще каким невероятным образом она оказалась там; дух, кажется, тоже заметил ее, насторожился и, опустившись от неожиданности на песок, стал шарить рукой в поисках автомата, взгляд же был неотрывно направлен на нее, ее чары здесь, в раскаленном клочке пустыни, окруженном острыми скалами, омывали волнами прохлады, о как она умела смотреть на мужчин! а сейчас она смотрела не на меня, а на этого вонючего шакала, впрочем, я сам был гораздо менее привлекателен и, по-видимому, еще более вонюч, чем он… Катя смотрела на него несколько минут, затем, вдруг, медленно стащила с себя джинсы и футболку, и все ее очаровательные выпуклости и прелести затрепетали в горячем воздухе, она опустилась на колени и раздвинула ноги, продолжая смотреть ему в глаза и улыбаться призывно, маняще… даже я пришел в сознание и понял, что она не призрак, хотя откуда ей тут оказаться? дух же издал гортанный крик и, приседая, побежал к ней, позабыв меня, позабыв автомат, позабыв все на свете, на ходу стаскивая с себя штаны, он залез на нее сзади, быстро задвигался как кролик, улюлюкая и похрюкивая, а она… что она? ее лицо размякло, глаза покрылись поволокой, дыхание участилось, она застонала, Господи! зачем я слышал эти стоны? ее бедра двигались плавно, позволяя душману входить предельно глубоко; я ныл, скорчившись в агонии, не понимая, за что мне в этом и без того кошмарном аду еще и такая изысканная мука, как вдруг услышал ее голос: дурачок, возьми же автомат! ну же, быстрее! я, сделав отчаянное усилие, дотянулся связанными руками до автомата, возникла мысль расстрелять их вместе, выпустить всю обойму, чтобы тела обоих были искромсаны в клочья. Но не смог прицелиться, тогда я поднялся и медленно двинулся к ним, его глаза расширились от ужаса, но он не мог уже остановиться, и она делала все для этого, ее движения стали резче, стон перешел в крик… Я размахнулся, насколько мне позволяли связанные руки и ударил затвором по затылку духу, тот закричал, продолжая двигаться еще быстрее, ручеек крови сползал по его шее, я ударил еще раз в темя и лишь тогда он оторвал руки от ее бедер, они повисли, дух захрипел и сполз на землю. Я стоял не шевелясь, а Катя… Катя глубоко вдохнула, посмотрела на убитого с какой-то даже нежностью, как мне показалось, затем склонилась над ним и закрыла его веки, засмеялась: - а мы с ним кончили вместе!... затем развязала мне, онемевшему от ее слов более, чем от всего, что им предшествовало, руки, - разве ты меня не хочешь? с еще большим ужасом я почувствовал, что мои рваные штаны вздыбились, а она расстегивала мне ширинку, я снова сходил с ума и очертя голову устремился в ее горячее – не сравнить даже с раскаленным воздухом – влажное открытое лоно, и через минуту-две от ненависти, ревности и брезгливости не осталось и следа, а она смеялась, стонала, жадно покрывала меня, небритого, колючего и вонючего освежающей и пьянящей влагой поцелуев, и скоро я шептал и почти кричал ей что-то ошеломительное, какие-то безумные обещания и слова любви, пока не обессилел и не свалился с нее… я так и лежал еще минут десять, ослабевший, в очередной раз облитый, как мне казалось, несмываемым потоком нечистот, возле трупа пожилого духа, так славно окончившего свой век; затем она подобрала его котомку с хлебом и флягой воды, повесила мне на шею автомат, застегнула штаны, натянула джинсы и кроссовки и, схватив меня за руку, поволокла, безвольного вдоль тропинки, пролегающей между скал: - скорее, милый, они могут вернуться в любой момент! я бежал, вернее, тащился в полубреду, а она то и дело доставала флягу и давала мне отпить глоток, пока вода не кончилась; поздно ночью мы очутились вблизи какого-то маленького кишлака и укрылись в загоне для скота, странно, что мы не наткнулись ни на одну мину, а в некоторые моменты я желал, чтобы все окончилось именно этим; я не помню той ночи совершенно, помню только, что когда проснулся, Катя поила меня козьим молоком…
- Милый мальчик, - тихо произнесла Толковательница, - вас спасла Великая Богиня, одно из имен которой – Катя…
- Что?!
3.
Ищи противоположности всему, что ты хочешь или, наоборот, не хочешь, - учил Дед; если ты что-то отвергаешь в себе, других или в жизни – ищи в себе столь же страстное желание этого, это аксиома, - не раз повторяла Толковательница. Я ненавидел всех многочисленных любовников Кати, ненавидел ее, а во время встреч с Толковательницей убеждался, переживал до глубины нутра, что я завидовал ее мужчинам, я хотел, да – хотел, черт возьми!, чтобы она без конца путалась с кем попало, я завидовал ее свободе, ее умению дарить любовь, - отнюдь не только тело, как я начинаю понимать, - первому встречному, она учила меня этому, я не знаю как она умудрилась в своем совсем еще юном возрасте, - а что такое семнадцать-восемнадцать лет в наше время? – быть настолько взрослой, быть трамплином для очень многих, для меня… и в тоже время – занозой, измождающей мою душу до сих пор, несмотря на все усилия Толковательницы и Деда… Дед… для него реальным был только дух, он презирал гуманизм и «прочие сопли»: правило гуманистической этики – твердил он мне - гласит: человек человеку - друг, товарищ и брат, в действительности этот принцип не выполняется, но для устойчивости социума вполне достаточно и того, что он провозглашается, для духа же данный принцип не играет никакой роли - даже в качестве благого пожелания или заклинания; уголовный мир руководствуется не менее древним принципом "человек человеку - волк", который, на первый взгляд кажется простой констатацией факта, лишенной каких-либо иллюзий, но на деле он порожден неврозом обиды и призывает тратить силы на волчью грызню, а для духа это значит терять скорость, так что оба правила неприемлемы для духа, и после всех вычитаний остается простой закон: человек человеку – трамплин… я спорил с Дедом, не мог принять его цинизма, очень здорового, как я теперь понимаю, хотя и продолжаю иногда сомневаться, но Катя действительно была моим трамплином, только я умудрился сорваться с него, или все-таки не сорвался?.. моя память уносит меня в совсем недавнее время, кажется это две тысячи третий год, и я сижу на Казанской во вьетнамском ресторанчике «Золотая Панда», где посреди зала протекает миниатюрная речка, в которой плавают рыбы, а азиатская девушка в ярком красном халате несет нам с Маргаритой сливовое вино и жареные тропические овощи, но и я и Маргарита меньше всего интересуемся сейчас заказом, наши руки сплетены, пожатия пальцев обещают то, что, кажется, ты так давно искал, хотя краешком ума ты понимаешь, что все это было уже сотни раз, и ты либо все уже давно нашел, либо не найдешь никогда; мы бесстыдно целуемся, не обращая внимания на нескромные взгляды посетителей и понимающую улыбку официантки, видавшей виды; наверное со стороны это выглядит смешно – дядька под сорок с залысинами и двадцатилетняя девочка, но я опьянен, я, знавший после Кати сотни женщин, опьянен, как в тот первый раз ранней весной восемьдесят второго на дискотеке во Дворце Молодежи, когда, преодолев под действием двухсот граммов водки робость, я впервые танцевал с Катей, удивляясь всем своим существом, что это возможно, что это состоялось, это невероятно, немыслимо, это не со мной, но вот же она, ее бархатное фиолетовое платье, аромат волос, который губит, глаза в глаза и улыбка, за которую я готов был тогда, да и потом множество раз, отдать жизнь, а в иные моменты – отнять жизнь у нее… и ее дерзкий шепот мне в ухо: убежим отсюда! – сказать, что я потерял голову от этих слов мало, я потерял все свои опоры, все за что цеплялся домашний мальчик, лишь отчаянно мастурбирующий вечером под одеялом, рисуя воображением ее образ, - нет - даже не смея представить ее с собой, просто издалека, а потом, излившись, брезгливо цедящий сквозь зубы: блядь!, чтобы через полчаса повторить все сначала, и так несколько раз за начало ночи, чтобы вконец обессилев от противоречивых чувств, постыдно удовлетворившись очередной раз, уже где-то под утро, злобно ударить несколько раз подушку и упасть, одновременно проваливаясь в сладкий сон о ней; и вот так вот вдруг услышать: убежим отсюда!, еще не веря, что это намек, еще ожидая подвоха, еще надеясь! на то, что что-нибудь да помешает оказаться с ней совсем наедине в прохладном тумане на Песочной набережной и целоваться, первый раз в жизни так вот запросто… целуясь в «Золотой Панде» с Маргаритой, я мысленно улыбался, вспоминая свою растерянность тогда, и как потом мы побежали, она веселая, играющая, наслаждающаяся всеми вибрациями этого вечера, и я, глуповато улыбающийся, одуревший девственник, порочный в своих фантазиях, но струсивший, когда фантазии оказались куда бледнее реальности, да и была ли это реальность, когда, подбежав к какой-то парадной, я вдруг остановился как вкопанный от ужаса и предвосхищения, что неужели?, а она обвила меня своими чудесными руками, не худенькими девичьими, а настоящими женскими руками, прижалась тугой грудью к моей груди, нагло, с дерзким вызовом, дразня и сводя с ума, вернее, с того, что еще от него оставалось, о, этот наглый взгляд ее безумно манящих глаз!, и сказала, что она без трусиков,… впрочем, я повторяюсь, и, видимо, буду еще повторяться, потому что эта волшебная, эта паскудная, эта приглашающая в сады Эдема фраза стала ключом, отпирающим мою новую жизнь, ибо я тогда умер в той парадной, умер и родился заново, родился человеком не просто познавшим женщину в грязной парадной, среди разбитых бутылок, плевков, окурков и запаха мочи, но познавшим вкус Богини, впрочем понял это я много позже, тогда все происходило как в замедленной до предела кинопленке, как бесконечно долго она стаскивала мои брюки, а я стоял, остолбеневший, не смея пошевелиться, затем развернулась, задрала платье, расставила ножки – на ней были белые с блестками чулки – такие не продавались в советских магазинах – и на каблучках она оказалась как раз по высоте, но я так и стоял, как громом пораженный – на ней действительно не было трусиков, - сейчас я за сто метров могу по походке определить женщину, которая идет без трусиков, тогда сам этот факт был невозможен для моего сознания, но его предъявили мне во всей обескураживающей реальности, и что мне оставалось делать, как не решить, что это сон, или я действительно умер и нахожусь в ином мире, в аду, скорее всего, потому как она – несомненно блядь – теперь я это видел воочию, а не только по слухам, но Господи, пускай она тысячу раз блядь, пусть сама Вавилонская блудница! - я изнемогал от счастья и небывалой остроты желания, а она смеялась, и смех ее был невинен и ласкал мой слух, как голоса ангелов, - откуда им взяться в аду?, она смеялась: потрогай, смелее, и входи… ну же – уже требовательно, и я подчинился, сердце колотилось у меня в горле больно-больно, но боль эта исчезла, стоило мне решиться, выйти из оцепенения, дальнейшее я не берусь описать словами, ибо беден мой словарный запас, впрочем, и слов таких, наверное, не существует, мир просто растаял, я обладал ею и не верил в это… она была трамплином для меня… и не только тогда, а вообще – трамплином… и куда я лечу с него до сих пор?
4.
Ах, Маргарита, Рита, девочка моя, я вспомнил нашу первую встречу, я шел по Садовой и увидел тебя, опытный мой тогда уже взгляд точно определил, что ты тоже без трусиков, это не обязательно было поводом для того, чтобы я знакомился, я не был уже одержимцем, как называла меня Толковательница, почему же я не пропустил тебя, и что во мне пленило тебя настолько, что через час мы уже целовались в ресторане, позабыв приличия, впрочем, после всего, что у меня было с Катей, какие могут для меня еще быть приличия?, и что удерживает нас вместе уже четыре года?, тогда как после Кати я ни с кем не сходился более, чем на две недели… ты излечила меня от занозы, оставленной Катей, уже после того, как я увидел ее в последний раз два года назад, увидел в обстоятельствах, ошеломивших меня, готового, казалось, уже ко всякому, ошеломивших совсем иным образом, чем тогда, в парадной на Песочной набережной, впрочем, еще не время для того, чтобы писать про это, - почему не время? – ведь для сознания времени не существуют и картинки восемьдесят второго года лежат в памяти столь же близко, как и картинки две тысячи пятого, точнее, какие-то картинки и того и другого года лежат близко, а иные далеко, но отнюдь не время определяет эту дистанцию, а что бы вы думали? – степень наделенности того или иного образа сексуальной энергией – либидо, - так говорила Толковательница, и вы можете высокомерно посылать Фрейда ко всем чертям, при этом вы посылаете не его, а свои искаженные, боязливые, суженные до убогих размеров конвенциальной морали, представления, потому что боитесь либидо, как боялся его я, долго боялся, долго боролся с ним, и Катя, бесконечно милая мне и проклятая мною, прекратила эту борьбу, помирила меня с собой, с бытием… да, кроме Кати в этом поучаствовали и Толковательница, и Дед, и Маргарита и множество женщин, а прежде всего она – Великая Богиня, которую я, на самом-то деле и ненавидел и желал, и боялся, был ею повержен и вырвался из ее цепких смертоносных объятий, вырвался с бесценным даром ее, о котором умолчу пока – не набрал еще этот образ (образ великого дара Богини) достаточной энергии либидо, чтобы я мог вот так запросто достать его из глубин сознания и бессознательного, и предъявить вам сейчас же; для того и текст этот пишу, чтобы шанс на это получить… Великая же Богиня была одной из любимых тем Толковательницы, о, она знала толк в этой теме; вместе с ней я совершал путешествия по подземельям и вершинам моей психики, отыскивая следы Богини в Катиных поступках; вот, скажем, какого беса потянуло ее пробираться за мною в Афган, куда попасть простой женщине в восьмидесятых было очень сложно? - всех, кто там работал, отбирали в верхних эшелонах власти, пославшей нас – сотни тысяч молодых парней, дабы показать «невежественным мусульманам» сколь могуч и крепок фаллос нашего Отечества; Катя любила меня, она пробралась «за речку», чтобы быть со мною, пробралась всеми правдами и неправдами, - вы, возможно, будете настаивать, что неправдами, потому как попала она туда, используя исключительно свое тело, и используя не единожды, и не в одном кабинете, да и не только в кабинетах, конечно же… я же скажу, что правдами она добралась, вернее одной правдой, и то, что она приехала из-за любви, любви какой вам и не представить в своих обустроенных оседлых мирках, - это лишь часть ответа, другая же часть, состоит в том, что ею двигало авантюрное влечение, абсолютно чистое от всяческой привязанности к чему бы то ни было, - для Деда это признак высочайшего класса, абсолютный респект, - кроме влечения к фаллосу, как высшей символической ценности человечества – это уже слова Толковательницы, точнее, не ее даже, а Жака Лакана, сумевшего истолковать Фрейда так, как тот и сам не дотянул; впрочем, с какой стати верить этим прохвостам и безбожникам? – а вот послушайте, что однажды сказала Толковательница, анализируя цепочку, по которой Катя, для которой я был дороже жизни, а чего уж там говорить про всяческие нормы, мораль и нравственность, которая (нравственность) есть чистой воды обоснование права на собственность, - вы почитайте «десять заповедей» внимательно – и поймете, что ничего, кроме попытки узаконить столь иллюзорное явление как собственность: на тело, на другого, на вещи и прочую шелуху, за ними не стоит, но ведь кому-то понадобилось впечатать в гены нескольких сотен поколений незыблемость этой иллюзии, которая не более чем прах, и возвести ее в святыню, так что мы вынуждены с придыханием произносить слово «нравственность», апеллируя к ней как к абсолютному непререкаемому авторитету, аксиоме, а посмотрите чуть пристальней и смелее и увидите, что за этой аксиомой – пшик, стоящий, правда на службе у тех, кто пытается вершить судьбы этого мира, хотя, по большому счету, его судьбы вершатся фаллосом, вот и Толковательница об этом говорила (вы уж извините мне этот долгий пассаж в сторону – мы к нему еще вернемся), обсуждая со мной непостижимую логику Катиных поступков: на санскрите «независимая женщина» синоним шлюхи, а в античности такая женщина являлась не только универсальным типом женственности, но и сакральным типом; но не привязана к мужчине и женщина, которая символизирует и обеспечивает плодородие земли, она — мать всего, что было или будет рождено; и лишь в приступе страсти она жаждет мужчину, который является просто средством достижения цели, обладателем фаллоса; все фаллические культы неизменно отправлялись женщинами - они играли на одном и одном и том же: анонимной силе оплодотворяющего фактора, фаллосе, как таковом; человеческий элемент, индивид, является только носителем -- преходящим и временным носителем — того, что не исчезает и неподвластно времени, потому что вечно остается одним и тем же фаллосом… - и, строго посмотрев на меня поверх очков, Эмма Робертовна добавляла, - вот за фаллосом и путешествовала Великая Богиня Катя, как, впрочем, и положено Великой Богине. Если следовать этой логике, то всякая женщина, в которой Великая Богиня хоть сколько-нибудь проявлена, движима единственной целью – этим самым фаллосом; остальные же пребывают в блаженной иллюзии, что движимы нравственностью, то бишь собственностью, что абсолютно глупо, ибо фаллос – категория вечная, а собственность преходяща, впрочем я не всегда верю тому, что говорила Толковательница, я верю ей только когда сознаю себя причастным фаллосу, то есть, мужчиной… мужчиной, которого любит Великая Богиня, которого любила Катя – о боже, как я ненавидел ее за эту чудовищную, обнаженную истину!.. истину ли? – я же говорил, что считал это истиной, только когда переживал себя мужчиной, точнее – бывал им, а мужчиной меня сделала Катя - трамплин мой долбанный; жил бы себе спокойно дитем, как большинство живет, и в ус бы не дул…
5.
О, как часто задумывался я – зачем же случилось так, что весь мир сошелся клином на этой потаскушке, на этой удивительной, прекрасной и презренной женщине, которая столько лет не дает мне покоя, впрочем, каким бы ужасом обыденности была бы моя жизнь, если бы ее заполнил этот вожделенный покой; вот уж воистину: «общая мировая душа – это я… я» - это про нее сказано, - «во мне душа и Александра Великого, и Цезаря, и Шекспира, и Наполеона, и последней пиявки. Во мне сознания людей сплелись с инстинктами животных, и я помню все, все, все, и каждую жизнь в себе самой я переживаю вновь», - сколько же жизней вошло в нее?, и уж несомненно – моя жизнь, я был просто ее придатком, подобием сына-любовника, обреченного на кастрацию, как любила говаривать Толковательница, о! она построила из наших взаимоотношений с Катей великий миф, а скорее, просто вписала нас в миф уже существующий, миф о Великой, Желанной и Ужасной Матери Богине, само же воплощение Великой, Желанной и Ужасной я отчетливо вижу перед внутренним взором и сейчас, поздней осенью две тысячи седьмого года, вот она сидит на пятой парте справа в двести восьмой аудитории, она юна и прекрасна, я уверен, что в тот день в нее влюбилась вся мужская, а возможно, и женская часть нашей группы; она одета в облегающее светло-голубое платье, дарующее свободу даже самому ленивому воображению увидеть прекраснейшую из женщин, уже не девочку, а именно женщину, с распущенными каштановыми вьющимися волосами, водопадом ниспадающими до лопаток, упругой грудью, точеными ножками, впрочем, о ее внешности бесполезно писать, ее нужно было видеть, лицо ее было совершенно необыкновенно, особенно глаза, дерзкие, наслаждающиеся, да-да, именно наслаждающиеся, ибо сама она, казалось, состояла из одного только наслаждения и для наслаждения была создана, я сразу понял, что эта очаровательная, пленительная девушка не для меня, а в ней ни тогда, ни позже невозможно было заметить ни следа порока, хотя девственности она лишилась еще в тринадцать лет, ее первым мужчиной, как она мне потом рассказывала, был кавказец лет пятидесяти, который пробудил в ней не просто женщину, не просто роковую женщину, а Великую Богиню… видимо, это был достойный учитель жизни и любви для маленькой Лолиты; я же и мечтать не смел о том, что это сокровище хотя бы заговорит со мной, оглядывая аудиторию, она, несомненно, заметила мои вожделенные взгляды, и поняла, раскусила меня, и я тоже понял, что она меня раскусила, увидела не просто девственника, краснеющего при самом незначительном разговоре с любой смазливой девчонкой, но и «хорошего мальчика» с нечистыми фантазиями; это было тридцатого августа восемьдесят первого года на первом собрании нашей группы; тогда в Техноложке был один из самых низких вступительных баллов в городе и все записные тунеядцы и бездельники устремились сюда, а не смотря на то, что я был «хорошим мальчиком», единственным ребенком в семье и предметом опеки мамы-папы-дедушек-бабушек-теть-и-дядь, я все же умудрился не стать прилежным отличником, а, напротив в школе слыл хулиганом – известная уловка маменькиных сынков, чтобы спрятать свое истинное лицо, и едва поступил в институт; и вот мы сидели и слушали куратора группы, который рассказывал об огромной ценности и важности выбранной нами профессии, его никто не слушал, а мы – пятеро парней ленинградцев уже наметили идти отмечать знакомство в «Старую Заставу», я все бросал на нее украдкой взгляды, краснея, когда она оборачивалась, она же смеялась, она почти всегда смеялась, сколько я ее знал, ее смех возбуждал и бесил меня с того первого дня, потому что тогда я ощутил, нет – не понял – понимание пришло чуть позже – ощутил, какая огромная пропасть между нами, и надежды – а они, конечно же были при первом взгляде на нее – надежды на что-то неясное, на какие-то призрачные платонические отношения, перемежающиеся ночными мастурбациями – надежды эти рухнули и остались только мастурбации – жадные, торопливые, болезненные, безнадежные… кто я был? – когда в школе учительница литературы дала нам задание читать вслух, распределившись по ролям, чеховскую «Чайку» - вы, наверное, сразу догадались, какая роль досталась мне? – конечно - Кости Треплева, воспевающего свою неземную любовь к Нине в образе Мировой Души, мальчика, так и не сумевшего повзрослеть, вечного заложника своей Великой и Ужасной Матери, а впрочем и не только своей, но и общемировой тоже, как и я… Толковательница, когда я рассказал ей этот эпизод, долго смеялась, что вовсе не полагается психоаналитику, но она смеялась, столь точным было это попадание в роль: ах, Александэр, синхронизм – хотя и величайшая тайна, но такие совпадения поистине неслучайны! – я пытался возражать, наивный, - Моя мама вовсе не была ужасной, она заботилась обо мне, уволилась с работы, чтобы воспитывать меня… - И, в результате – сделала из вас, Александэр, извините, кастратика, - Но… - Не возражайте, скоро вы поймете, почему я имею право говорить вам это, для вас любая женщина, женщина вообще была воплощением Великой и Ужасной. – И Катя? – Безусловно, и хотя она, в облике Великой и Ужасной Матери, да, дорогой мой, именно Матери в первую очередь, сделала для вас все, чтобы вытолкнуть вас на орбиту взрослой жизни, вы так и ухитрились остаться одержимцем, вы одержимы Великой Матерью, хотя во многом она, в облике Кати сделала вас мужчиной, сумевшим пройти войну и сумевшим принять любовь Великой Богини, а не только трепетать от ужаса и вожделения, - мне нечего было возразить тогда, хотя весь миф о Великой и Ужасной откроет мне Толковательница позже, а тогда в аудитории двести восемь на втором этаже главного корпуса Технологического Института, я изнывал от ужаса и вожделения, несмотря на все усилия скрыть это даже от самого себя…
6.
Наш гуманистический век пропитан ложью о всеобщем равенстве, о равенстве перед кем? – да, я не понимаю всю эту необходимость провозглашения прав и свобод! ибо на свободу нужно иметь не только право, прописанное в Конституции, – подлинную свободу дарует то самое право, которое опирается на действительную величину твоего фаллоса, - успокойтесь – фаллос не тождественен физическому члену, это уровень либидо, уровень, согласно которому и выстраивается «табель о рангах» человеческих взаимоотношений, ведь каждому, кто не хочет себя обманывать, прекрасно известно, что есть самцы, имеющие гораздо больше прав на твою самку, это инстинктивно чувствует и сама самка и только нормы морали могут сдержать естественный ход вещей, вызывая нарушения всех уровней бытия – от мировоззрения до физических болезней; «мы все глядим в Наполеоны», но это лишь амбиции, и горе тому, чьи амбиции не совпадают с уровнем энергии; ведь кем я был до того мартовского вечера, когда прозвучали заветные слова паршивки Кати, волшебное заклинание этой прекрасной, чудовищно прекрасной ведьмы: я сейчас без трусиков… - нет, не набьет мне эта магическая формула оскомину, ведь до нее я был жалким романтиком Костей Треплевым, нелепым Мальволио в желтых чулках с подвязками крест накрест, убогим Пьеро, и имя им – Омега, отщепенец, не имеющий прав на самку… он может писать оды, вздыхать под балконами и петь сладкозвучные серенады, но вот приходит Арлекин и, не говоря ни слова, овладевает Коломбиной, и она чует всем нутром своим, что Арлекину не нужны слова и рифмы, она просто обязана ему отдаться, и пускай Пьеро, если он совершенный идиот и не понимает, что его амбиции – лишь фикция, хоть даже и обоснованная каким угодно законом, бежит топиться или вешаться от горя, имя которому глупость и ложь; и у Пьеро есть шанс повстречать Коломбину-трамплин, попасть в минуту благости, а когда у нее бывают другие минуты? – на глаза Великой Богини, Великой и Ужасной Матери, которая сделает из него сына-любовника, и тут уж либо ты будешь использован и кастрирован, либо вступишь на лестницу, также ведущую на эшафот, но это эшафот, на котором приносят в жертву королей, альфа-самцов; в чем разница? – спросите вы, и я отвечу: в длине и, главное, красоте пути…
Женщина - это первая религия для мужчины, в которой первым его божеством становится Богиня-Мать, которую Толковательница иногда называла подавляющей силой бессознательного, имея в виду ее пожирающий, разрушающий лик, образ злой матери или покрытой пятнами крови богини смерти, чумы, голода, потопа, силы инстинкта или наслаждения влекущего к разрушению, в другое время она является совершенно иной, она предстает, как изобилие и достаток, она уже дарительница жизни и счастья, наивысшего счастья, которое только может изведать смертный, она - плодородная земля, рог изобилия ее плодотворного лона не имеет дна, она выражает инстинктивное знание человечества о глубине и красоте мира, великодушии и милосердии Матери-Природы, которая изо дня в день выполняет обещание искупления и воскрешения, новой жизни и нового рождения, - такой предстала мне Катя в парадной на Песочной набережной, несмотря на всю нелепость окружающего пейзажа: вместо фонтанов и павлинов – осколки бутылок и окурки, такой она представала мне великое множество раз, и я, ставши уже не омега, но гамма-самцом – как блестяще все-таки провела эту инициацию, этот перевод на новый уровень бытия моя богиня, впрочем в Средние Века подобных богинь сжигали сотнями тысяч, трусливые отцы церкви, эти несчастные омега и гамма самцы, типа Иоанна Златоуста, который написал однажды: «что такое женщина как не враг дружбы, неизбежное наказание, необходимое зло, естественное искушение, желательное бедствие, домашняя опасность, усладительный вред, зло природы, окрашенное в красивые краски», и даже многомудрый Пифагор, познавший гармонию сфер – и он боялся, произнося: «есть хороший принцип, который создал порядок, свет и мужчину, и есть плохой принцип, который создал хаос, тьму и женщину", - все они дрожали за свой фаллос, боясь оскопления, и невдомек им было, что фаллос – анонимен, что они лишь носители, но не властители его, ибо властительница одна во все времена; так вот, будучи уже гамма самцом, я, испытывая муки ревности и ненависти, ухитрился каким-то задним умом учуять, что она – не моя самка, она может лишь снизойти до меня, отдаться мне, как одному из многих, кому она дарила не только тело свое, но и любовь, она была волшебным существом; что бы я делал, не пройдя ее инициации уже даже в учебке под Ашхабадом, где прапорщик Кирилов, дай бог ему здоровья, гонял нас с ранцами, полными камней до изнеможения, мы матерились, мы желали, чтоб он сдох, садист поганый, ты ползешь на высоту, раздирая пальцы в кровь, истекаешь потом, сердце бешено колотится уже где-то за пределами тела, тебе нечем дышать и палящее солнце доканывает тебя, ты проклинаешь все и вся и прапора в первую очередь, но ты знаешь, что он, злобный, беспощадный, кричащий тебе, скорчившемуся в луже собственной блевотины, что ты дерьмо и ничтожество, - любит тебя, тебя лично, Господи! - сколько же в нем было любви, он так хотел, чтобы все мы, каждый из нас, чьи лица до сих пор, уверен, приходят ему во снах, и он, кадровый военный, плачет как мальчишка, вдруг осознавший хрупкость этого мира, затерянного в безбрежном Космосе, - он так хотел, чтобы все мы остались живы в той мясорубке, которая нас ожидала; я бы не выдержал и первого дня, я не смог бы понять Кирилова, да и многих других офицеров, прапоров и дедов, если бы она не любила меня, если бы она не подарила мне шанс, если бы не пустила в путешествие по взрослой жизни, ведь из института-то я вылетел и угодил в Афган тоже по ее милости, и мне посчастливилось не отвернуться от нее, не слушать голоса ревности, ненависти, справедливости и нравственности – я бы погиб, а спасся я и стал таки мужчиной и, надеюсь, человеком, слушая совсем другой голос, голос банальной похоти, голос Василиска…
7.
Я неизменно робел, встречая Катю перед лекцией, стыдливо опускал глаза, бормотал: привет, стараясь скорее проскользнуть мимо, я боялся своих запретных желаний, почему запретных? – да потому, что догадывался, только интуитивно, что желать ее – альфа самку, мне – омеге – не по рангу, она смеялась, в ее глазах неизменно был вызов и еще какое-то лукавство, но никогда в них не было презрения, как будто бы она прекрасно понимала, что со мной происходит, понимала, как заботливая мать; на этой стадии развития наших отношений, ведь они уже развивались и шли полным ходом, независимо от того, что между нами не случилось с первого дня учебы и до февраля, то есть, более пяти месяцев, ни одного более-менее продолжительного разговора, и кто придумал, что для отношений нужны разговоры? – мы пронизаны отношениями, важнейшими для нашей судьбы, для формирования наших ценностей, для глубочайшей палитры чувственно-интуитивного восприятия, насквозь, тысячами, сотнями тысяч отношений, даже с теми, с кем ни разу не встречались, и не встретимся, это могут быть не только живые люди, или даже исторические фигуры, но и выдуманные персонажи, герои книг и фильмов, сказок и мифов, которые стоят за всеми теми внутренними голосами и молчаливыми взглядами, с помощью которых мы оцениваем себя самих, не лишним будет даже сказать, что мы связаны отношениями, значимыми и эмоционально окрашенными, со всеми и со всем в Поднебесной; так вот, на этой стадии наших с Катей отношений, правил образ Матери Богини с Божественным Младенцем, - так рассуждала Толковательница, и у меня не было причин не соглашаться с ней, - в этой стадии, сотканной из моих вожделений, страхов и неловкостей, я являл нуждающуюся и беспомощную сущность ребенка, Катя же – защитную сторону матери, ее милосердие и всепрощение - за ними стояло нечто большее, чем простое понимание моей застенчивости: так в образе козы мать вскармливает критского мальчика Зевса и защищает его от пожирающего своих детей Кроноса, так Исида возвращает мальчика Гора к жизни, когда того кусает скорпион, так Мария защищает Иисуса, уберегая от Ирода, - для молодого бога Великая Мать является самой судьбой; такого рода связь, - говорила Толковательница, - наиболее ярко выражается в дочеловеческих символах, где Мать является морем, озером или рекой, а младенец – рыбой, плавающей в водах реки, озера или моря… вот вам и река, и рыбка, чем не идиллическая картинка? - маленький Гор, сын Исиды, Гиацинт, Эрихтоний, Дионис, Меликерт, сын Ино, и бесчисленное множество других любимых детей — все они подвластны всесильной Матери Богини, для них она все еще остается благодетельной родительницей и защитницей, молодой Матерью, Мадонной… - да видели бы вы эту целомудренную Мадонну на институтских вечеринках в общаге! – усмехался я, - ах, Александэр, вот тут как раз нет никакого противоречия: ваше эго было расщеплено, как минимум, на две части, младенческую и подростковую, и в то время, как подростковая искала любого удобного случая, чтобы испугаться, мудрость тысячелетий, запечатленная в ваших генах, подсказывала, что подростки, выбранные Матерью, в качестве своих любовников, могут оплодотворить ее, они могут даже стать богами плодородия, но фактически они остаются лишь фаллическими супругами Великой Матери, трутнями, служащими пчелиной матке, их убивают, как только они выполнят свой долг оплодотворения, так и любой влюбленный подросток предчувствует гибель, он должен будет умереть, Великая Мать убьет его, чтобы воскресить в качестве мужчины, однако последнее не гарантировано, поэтому страх подростка оправдан: его жертвоприношение, смерть и воскрешение – все это ритуальные центры всех культов жертвоприношений, а что, по-вашему, такое пубертатный кризис, как не своеобразное жертвоприношение? – пубертатный, но… - да, не удивляйтесь, он может быть растянут во времени вплоть до самой старости и ваше счастье, что с вами эта смерть и возрождение случились в семнадцать.. – восемнадцать, в марте мне было уже восемнадцать, - ах извините, пойдемте попьем чаю… и вот мы шли на кухню, и Толковательница заваривала индийский чай с какими-то травами, должен признаться, что удивительно вкусный и ароматный это был чай, и беседа под питье этого чая из настоящих узбекских, я так и не спросил – откуда она их достала, пиал, могла длиться часами, и ты этого не замечал, зато понимал с предельной отчетливостью, что критский младенец Зевс, вскормленный Великой Матерью в образе козы, коровы, собаки, свиньи, голубя или пчелы, рождается каждый год лишь для того, чтобы каждый год умереть; и голос Толковательницы убаюкивал, унося куда-то в доисторическое прошлое, туда, где человечество было девственно и невинно, несмотря на все кровавые жертвоприношения; мы пили чай неизменно при свечах, при многих свечах, я не считал, но мне казалось, что их всякий раз было не менее двадцати, они стояли в самых причудливых уголках маленькой кухни в ее квартире в старинном доме на Второй Линии Васильевского острова, тени язычков пламени, да и наши тени дрожали, и мое воображение вновь оживляло образы осени восемьдесят первого года, оно перепутывалось с голосом Толковательницы: так вот, ваше подростковое эго трепетало от священного ужаса, в то время, как ваше младенческое эго, подобно маленькому Гору, сыну Исиды, Гиацинту, Дионису, Меликерту, сыну Ино, подобно бесчисленному множеству других любимых детей, а попробуйте сказать, что вы не были любимы, младенческое ваше эго не знало еще никакого конфликта, для него Великая Богиня все еще оставалась благодетельной родительницей и защитницей, и как это ни странно звучит, действительно Мадонной… Я вспоминал глаза Кати, когда она отдавалась, таких глаз я больше не видел ни у кого, разве что у Маргариты, да и то не всякий раз, в глазах Кати, даже в момент самого пика наслаждения, а она могла при этом кричать и судорожно цепляться пальцами за простыню или что там попадет под руку, царапать мне, или кому-то еще спину, но в глазах ее не было ни боли, ни животной ярости, ни обиды, ни прочих атрибутов ненависти к мужчинам да и к миру вообще, которая преобладает у большинства представительниц прекрасного пола, Катины глаза неизменно улыбались и светились наслаждением, счастьем, благодарностью, любовью, душа моя оттаивала, и во мгновения созерцания этого сияния наслаждения, счастья и любви, исходившего из ее глаз, я прощал ее за все, за то, что считал тогда предательством, блядством, изменами, прощал, только вот прощение длилось, увы, недолго; Мадонна, Мадонна, шептал я, слушая Толковательницу и вспоминал те ядовитые чувства, которые испытал, когда в ноябре восемьдесят первого по курсу впервые пополз слух, распространяемый такими же, как я «хорошими мальчиками» с нечистыми помыслами, о том, что с Катей переспала уже половина факультета, не говоря уже о преподавательском составе, что-то во мне сопротивлялось этим слухам, а что-то, напротив, злорадствовало, подогревало во мне мстительные чувства ко всему, что связано с женщинами, все бабы шлюхи – вот какое убеждение мне хотелось отстоять для чего-то, видимо, и для того, отчасти, чтобы хоть как-то оправдать в своих глазах и глазах товарищей по несчастью участь омега самца; мы как-то стояли в институтском коридоре и обсуждали девчонок, обсуждали с видом надменным, будто познали уже жизнь во всех ее красках и, кажется, я тогда небрежно бросил что-то, типа: Катька-то? да она любому отдастся за три копейки! – и в этот момент случилось пройти мимо нашей троицы Пашке Чугунову, вот это был несомненно уже альфа самец! - тогда я этого, конечно же не понимал, но чувствовал его превосходство, хотя и ростом он был ниже меня и телосложением особым не выделялся, он услышал мои слова, подошел, сгреб меня за шкирку и глядя снизу вверх презрительно, процедил сквозь зубы: что же ты, сука, сам три копейки не заплатишь? жмотишься или трусишь? – потом совершенно серьезным тоном: еще услышу от тебя что-нибудь про Катюху – прибью урода! – за этими словами последовал короткий, не очень сильный, но отчего-то безумно обидный щелчок его кулака по моему подбородку, я мог бы дать сдачи, я превосходил его по силе мускулов, но я не сделал этого, и товарищи мои тоже стояли, пристыжено опустив глаза; Пашка не оглядываясь, удалился. Тут же вспоминается еще один подобный случай, уже в конце ноября, я, правда тогда помалкивал; это был мой первый выход в «свет», в нашу общагу, туда где вино и девочки, а я боялся не только Катю, но молодых женщин и девушек вообще, чувствуя себя неловко, я приготовился блеснуть красноречием и, преодолевая робость, рассказать что-то на мою излюбленную тогда тему о «летающих тарелках», в среде моих родителей ходили отксерокопированные самиздатовские книжки про всяческие диковинки; и вот передо мной уже небольшая комната, четыре кровати сдвинуты так, что получился Г-образный стол, на котором стоит нехитрая закуска: консервы, толсто порезанные куски колбасы и булки, и неизменный Портвейн, гонцом за которым был, в том числе и я; гонец приносил внушительные сетки, наполненные вожделенным пойлом, но оно в течение часа заканчивалось, посылали нового гонца… все было так непривычно, я много пил, чтобы не сбежать, молчал, потому как встрять в общий гомон было и трудно и неловко, что там мои «тарелочки»… ребята из общаги держались поувереннее, в комнату умудрились втиснуться человек двадцать пять, некоторые парочки сидели в обнимку, кто-то целовался, иные пары выходили и возвращались через минут двадцать раскрасневшиеся, я смекал, что к чему, пил еще больше, становился еще угрюмее - все это было мне не по плечу; Катя была среди нас всего полчаса, я боялся встретиться с ней взглядом, а потом она внезапно исчезла; из соседней комнаты долго раздавались стоны и крики, скрип кроватей: что у вас там происходит? – поинтересовался кто-то из ленинградцев, чуждых атмосфере общежития, ему ответил Жорка Артамонов, который изрядно уже «принял на грудь»: да это Конь с Вовчиком Катьку дерут! – он хотел, было увенчать эту реплику скабрезным смешком, но не успел: тот же Пашка Чугунов мгновенно оказался рядом с ним и с размаху въехал Жоржику кулаком по чайнику: сверху вниз загасил, Жоржик сполз на пол, оглушенный ударом, без единого звука, на минуту воцарилась тишина, потом опять полилось разливанное море Портвейна, а тут еще и водочку принесли, веселье продолжалось, на тему Катиных похождений было наложено однозначное табу, а я – несчастный Пьеро, - выскочил из комнаты и бросился к выходу из общаги, едва сдерживая слезы, я ведь был влюблен в нее, и все эти слухи про «три копейки» - я не верил в них всерьез, я до того лишь рисовался перед дружками, такими же маменькиными сыночками, а тут в ушах моих стоял стон ее наслаждения, да еще, судя по словам Жоры, уж он-то был в курсе жизни общаги, - наслаждения сразу с двумя – прыщавым Конем и долговязым Вовчиком; первой моей мыслью было броситься под колеса трамвая, вместо этого, отрезвленный холодным осенним ветром, я поймал такси и поехал домой, плакать и отчаянно мастурбировать, я еще долго буду поступать подобным образом, и что же это была за Мадонна? – была, была она Мадонной, чистой, невинной, любящей, понял я это в тот вечер при свечах у Толковательницы и снова плакал, но были это уже другие слезы, слезы исцеления и прощения, я ведь себя простил тогда, прежде всего…
8.
Тем мартовским вечером восемьдесят второго года мы шли с Катей от Песочной набережной по улице профессора Попова, свернули на Вяземский, затем на Карповку, мы держались за руки, это было так трогательно и наивно, я даже стеснялся редких случайных прохожих, вот детский сад какой-то, казалось мне, город засыпал, а мы оба забыли, что в этот совсем еще не теплый вечер мы оба налегке, ее плащ и моя куртка так и остались висеть в гардеробе Дворца Молодежи; отправляясь в армию я взял себе тот номерок как амулет, как память об этой чудесной и злой ночи, которая так резко изменила мою судьбу; до набережной Карповки я шел молча, она улыбалась и бросала на меня озорные взгляды, иногда останавливалась и подставляла свои влажные, чуть припухшие губы для поцелуя, целовался я неумело и несмело, и несмотря на близость, уже случившуюся между нами, был робок и намеков не понимал, а она все равно смеялась и подбадривала: ну что же ты, целуй меня, экий вы, сударь неловкий кавалер, да ладно, ладно… вот ведь мерзавка! я и так не знал уже куда деваться, меня переполнял восторг, влюбленность, даже какая-то удаль и ощущение геройства, но так же и ревность, жгучая, острая до едва выносимой боли ревность, ведь вот таким же образом она, моя возлюбленная, отдавалась кому попало, для нее, небось, что я, что любой другой – все на одно лицо, а может она просто пожалела меня или играла как с несмышленышем щенком? – мой мозг взрывался, не в силах выдержать всей этой пляски противоречивейших чувств и мыслей, в миг поцелуя я вновь растворялся, вновь все мысли и противоречия не имели значения, но вот наши губы размыкались и я хотел сказать, что я люблю ее, но это желание разбивалось вдребезги о скалу болезненного, да не просто болезненного, а обнаженного до голых нервов самолюбия; происходящее не укладывалось ни в одну из известных мне тогда схем взаимоотношений между юношей и девушкой, все сценарии были наглым образом взломаны, все святое в один миг испошлено, душа корчилась в агонии, я даже не чувствовал холода, я почувствовал его лишь когда мы вышли на Карповку и остановились: Катя вновь подставила губы, и в этот раз я поцеловал ее уже не робко, а как-то даже зло, мстительно, она, видимо чувствовала, что происходит со мной, она не отпустила меня, меня нельзя было отпускать в ту ночь: вот тогда я мог действительно броситься с моста или угодить под машину; она удержала меня: обними меня, Сашка, мне холодно – другие слова в этот момент не сдержали бы меня, я бы убежал в ночь, в ничто, в смерть без возрождения, тут же, как хороший мальчик, я обязан был ее согреть, я снял пиджак, укутал ее плечи, неуклюже обнял ее – руки, да и все тело мое были каменными, я всем видом, всем состоянием показывал ей, что мне стыдно за то, что случилось, стыдно быть рядом с ней, стыдно обнимать ее продажное тело сучки, в голове кипели сотни обидных слов, ругательств, возгласов недоумения, вопросов, и где-то под спудом всего этого – признание в любви, которое она так никогда и не услышит от меня. Я, несмотря на холод и озноб, а тут еще заморосил мелкий дождик, ощущал близко ее пьянящее дыхание, упругое тело, вспоминал минуты сказочной близости и предательская плоть брала свое, я пытался отодвинуться, но она прижалась еще крепче, и мне, ко всему прочему стало еще и неловко… Ты хочешь еще, милый? – слово «милый» царапнуло по душе бритвой, ни одна девушка еще не называла меня так, но именно она, я уверен, называла милыми сотню, а то и больше парней; вспомнился разговор с приятелем после новогодних праздников, он спросил тогда: что бы ты сделал, если бы влюбился, стал бы гулять с девчонкой, а потом узнал, что до тебя у нее уже кто-то был, ну со всеми делами? – тогда не раздумывая, я ответил: бросил бы ее тут же – не нужна мне блядь! – о, какой невинной мне предстала эта ситуация, по сравнению с той, в которую я вляпался… конечно, я хотел ее, безумно хотел еще и еще, но разве мог я тогда честно ответить «да»? – вместо этого бесхитростного ответа я промычал: но ты же меня не любишь! у тебя ведь были парни до меня, я знаю! - это вот я знаю должно было, как мне казалось, прозвенеть, как пощечина, я вложил в это я знаю всю обиду, всю ревность, и слава богу, что вложил, что сделал этот выстрел, мне стало легче, а она не только что не заметила, нет, не заметить мою интонацию эта потрясающая девушка, эта умничка не могла, она пропустила эту энергию мимо, не возвращая ее мне обратно, она позволила мне этот маленький катарсис, хотя катарсисом это можно назвать лишь в насмешку, я чуть-чуть выпустил пар и за счет этого не взорвался, Катя же опять рассмеялась, но ее смех не был насмешкой над моей глупостью, над моей броней оценок и суждений, ее смех был разрешением для меня быть таким, как я есть, это был акт любви, да и слова произнесенные ею затем, хоть и ввергли меня в ступор, но дошли до какой-то крохотной моей частички и это было залогом спасения, залогом того, что несмотря на шок, на крушение всех ценностей и идеалов, душа моя приняла решение все-таки жить, как и много раз позже: милый мой Сашка, да разве бывает секс без любви? – и, видя мое недоумение и готовность горячо возражать, прижав пальчик к моим губам: запомни, запомни крепко – секс без любви невозможен, скоро ты поймешь это, как и я поняла однажды, а я люблю тебя, люблю и хочу… нет, не скоро пойму я это, лишь через десять лет, да и то с помощью Толковательницы…
9.
«Все, все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимы наслажденья – бессмертья, может быть, залог! И счастлив тот, кто средь волненья их обретать и ведать мог»… Я обретал и ведал гибельное наслаждение, моя учительница раскрыла во мне эту способность, а скажу, что способен на это далеко не каждый, и я видел, как погибали пацаны за «речкой», погибали именно потому, что были не способны насладиться великими, сладостными и страшными дарами Великой Богини: сексом и смертью, точнее, близостью смерти, не способны были вкусить пьянящее безумие кровавой резни, позволить впустить в свое сознание доисторическое упоение при виде груды трупов, кровавого месива, состоящего из искореженного металла, грязи, рваного мяса и обугленных костей - защиты нашей психики удивительно прочны, и лишь тому, кто изведал безумие сексуальных оргий, доступны такого рода переживания, которые наш «гуманистический» век назвал бы извращением, потому и фразу классика «есть упоение в бою» мы воспринимаем как нечто, безусловно романтическое, но не имеющее касательства лично к нам; там, за «речкой» ты либо был готов к этим сомнительным, с точки зрения здравого смысла, наслаждениям, либо отправлялся на Родину, закованный в цинк, я вспоминаю паренька из нашей роты – Леньку-Кирпича – мы сопровождали танковую колонну и один танк напоролся на мину, понятное дело, что внутри кабины было месиво, и вот собирать останки летеха Фомичев послал Леньку, послал, чтобы обкатать новичка, но ошибся летеха, это через пять минут было ясно всем, кто пробыл в Афгане хотя бы пару месяцев, Ленька-Кирпич вылез из раскоряченной башни танка, держа в руке часть черепа, в котором каким-то непостижимым образом застыл удивленный глаз, Ленька был весь зеленый, неестественно замедленный, летеха бросился к нему, раскурил травку, но тот и затянуться как следует не мог: все, отвоевался! – угрюмо произнес кто-то из дедов, и я тоже видел, что Кирпич подписал уже себе приговор, принял решение уйти, да-да, человек всегда подписывает свой приговор сам и только сам, а снайпер, который вечером того же дня, когда мы попали в засаду, пробил не кому-нибудь, а именно Леньке грудь, лишь привел этот приговор в исполнение; и пусть за год моей службы я сталкивался с упоением боя и наслаждением от крови лишь три раза, я был открыт первобытному инстинкту, я выжил, я хотел жить, эту жажду передала мне Катя, и не случись она в моей судьбе, приговорил бы и я себя еще в учебке или в Кабуле, где хоть и было поспокойнее, чем в Герате, но случаев попасть в расход было предостаточно, и я видел, я знал, как это происходит, еще там, в восемьдесят третьем; позже Толковательница научила меня не только видеть, но и уважать древнейшие инстинкты, я спрашивал у нее: зачем вы уделяете столько внимания никому уже не нужным в наш цивилизованный век инстинктам, всему звериному, что уже давно побеждено культурой и просвещением?- ее ответ были резким, как пощечина, так описавшегося в квартире щенка макают мордочкой в его же лужу: - не лгите хотя бы себе, неужели вы не чувствуете, сколь обманчиво тонок пласт этой самой культуры? – и когда я, насупившись, ибо чувствовал, что да – вру, пытался защищаться, она, видя, несомненно, что я запутался и морочу сам себя, добавляла уже с издевкой: - на чем держатся эти убеждения? на трех китах и черепахе, хе-х… кто из нас может твердо сказать, что ждет нас если даже не завтра, то через несколько лет? и я не знаю этого, знаю лишь, что если и суждено пройти нам когда-нибудь через семь трубных гласов, то в числе тех самых ста сорока четырех тысяч праведников, о которых сказано у Иоанна, восставших для жизни новой, по иронии судьбы, а поверьте мне, она-то женщина не просто ироничная, но до неприличия озорная, окажутся лишь те, кто изведал запретный плод неизъяснимых наслаждений, о которых прозорливый Александр Сергеевич писал почти двести лет назад… - я удивлялся: Эмма Робертовна, вы верите в апокалипсис? - не в этом дело, Александэр, я просто вижу как людям нравится обелять себя, выдавливая лучшее в себе, что они как раз считают худшим, их так научила культура, в Тень, в бессознательное, подобно идиоту из бородатого анекдота, который решил в целях чистоты и гигиены не какать, а стоит лишь чуть зашататься какому-нибудь столпу дурацких убеждений и верований…, а даже круглому дураку ясно, что к тому идет…, - и я понимал, как легко подписать себе приговор, как это сделал Ленька-Кирпич и многие еще, даже не в столь драматичной ситуации, а при самом банальном событии, типа дефолта или даже незначительной смены общественного строя, мы ведь все ужасно избалованы иллюзиями безопасности, защищенности социальными законами и прочей хренью… а Толковательница продолжала, такой возбужденной я видел ее крайне редко: - я не устаю поражаться милости Великой Богини, дарующей шансы всякому, кто готов их взять, вы видите, как с каждым годом падает планка морали и нравственности? – и что делать? – я не понимал куда она клонит, - радуйтесь! – чему же радоваться? – тому, мой дорогой, что это шествует Великая Богиня, готовая подарить жизнь всем, кто не цепляется за установившиеся нормы; и вот, спустя пятнадцать лет после этого разговора, я пишу о том, как верный слуга Великой и Ужасной Богини – Василиск, этот демон похоти, подарил мне не просто жизнь, но Жизнь при жизни, позволил упасть на зловонное дно души своей, выползти из шкурки «хорошего мальчика», познать счастье и причастность бытию во всей его противоречивости, сложности и простоте; я никого не зову за собой, вспоминая боль, с которой обрушивались мои верования, невыносимую боль, которую причиняла и которую врачевала обыкновенная потаскушка, блядь и жрица самой Жизни – Катя; не стоит проходить мимо этих жриц (я не имею в виду проституток, отдающихся лишь за деньги, в них нет жажды жизни, жажды фаллоса), ибо только они, а не «хорошие девочки», которые будут вам верны всю жизнь, но зачастую грош цена этой верности, построенной на лжи своей природе и самой Природе, - только они, жрицы, подобные Кате, умеют любить и не тянут из любимых ими мужчин соки, они дарят им себя, дарят свободу, страшную свободу, которую побаивался даже сам Одиссей, что уж говорить о нас – бедолагах; я до сих пор не знаю, чем обязан Великой и Ужасной за ее дары – свободу и вседозволенность - теперь я могу говорить о них - ведь именно свобода и вседозволенность, «сила низости Карамазовская» пугала меня больше всего на свете до того злополучного года, как я спутался с Катей, когда вагончик жизни покатился под уклончик, покатился, чтобы набрать ускорение и, в конце концов, выбросить меня из пут обусловленности…
10.
Что бы там ни было, но после первых нескольких встреч с Катей мне пришлось встать на горло собственной ревности и самолюбию, она однозначно дала мне понять, что исключительно моей она никогда не будет, да и с какой стати? - сейчас я с усмешкой вспоминаю свои терзания, то, как я доводил себя до невменяемости, самоуничижения, близости к суициду, мы были абсолютно в разных категориях, я только что оперившийся мальчишка, делающий первые шаги в самостоятельную жизнь и она, почти королева, способная увлечь и свести с ума любого самого матерого мужчину; удивительно другое: почему, имея столь широкий выбор, а окружали ее действительно шикарные мужчины, это я сейчас понимаю, она в течении почти семи лет носилась со мной так, как будто я был ее сыном или любимым учеником, все остальные ее связи были кратковременны и не продолжались дольше одного-двух месяцев, не говоря уже о великом множестве однократных связей; зачем пустилась она за мною в Афган и потом еще несколько лет мыкалась вдали от Родины, только чтобы я не пропал на чужбине, у нее-то были все шансы прекрасно устроиться где бы она не пожелала; Толковательница говорила о том, что Катя, как и положено Великой Богине, путешествовала за фаллосом, но если фаллос анонимен, его можно найти где угодно, тут явно была какая-то загадка, которая и Толковательнице была не по зубам, и хотя она предлагала еще ряд версий, все они казались мне неубедительными, разве что про нарциссизм любовников Великой Богини… Суть этой версии заключалась в том, что все любовники Матерей Богинь во всех древнейших мифологиях имели общие черты: все они юноши, красота и привлекательность которых так же поразительны, как и их нарциссизм, они — нежные цветки, символически изображенные в мифах как анемоны, нарциссы, гиацинты или фиалки, которые наша явная мужская патриархальная ментальность более охотно связала бы с молодыми девушками; единственное, что мы можем сказать об этих юношах, каковы бы ни были их имена, - это то, что они доставляли удовольствие любвеобильной Богине своей физической красотой, хотя, в противоположность героическим персонажам мифологии, они лишены силы и характера, им не доставало индивидуальности и инициативы, они во всех отношениях являлись услужливыми юношами, нарциссическое самоочарование которых очевидно, и все это было действительно про меня, без ложной скромности скажу, что я был действительно красивым юношей, и внешность и сложение были в мою пользу, что уж говорить про нарциссизм! - если бы не Афган и все дальнейшие скитания, можно было бы довольствоваться объяснением этого мифологического сюжета; да Толковательница очень во многом попадала в десятку, в этом же вопросе даже ее видения, таланта и опыта не хватило. Мне кажется, что ближе всего к разгадке подошел Дед, я еще расскажу о нем подробнее, Дед был далек от мифологических аллюзий, он предположил, что будучи представительницей чистого авантюрного сознания - а он и сам был таковым – Катя, обладая удивительно тонкой интуицией, каким-то непостижимым образом почуяла, что в моем лице, а точнее, в моей судьбе ей подвернулась достойная структура приключения; в конце концов, что привлекло Остапа Ибрагимовича в несуразном Кисе Воробьянинове? – узнав тайну сокровища, Бендер вполне мог успешно действовать в одиночку и его довод: «вы меня интересуете лишь постольку, поскольку я хочу обеспечить вашу старость» звучит лишь для отвода глаз, он находит в Кисе ученика, и, как это ни странно, ученика весьма талантливого, способного сняться с оседлого образа жизни, пройти многочисленные ломки личности и в конце, как и подобает достойному ученику, перешагнуть через труп учителя, убив Бендера-Отца, а возраст в символическом пространстве не важен; в символическом пространстве, когда ученик готов, он убивает будду, что и сделал Воробьянинов, а его финальный вопль возвещает о полном и окончательном просветлении, которое в романе преподнесено, как сумасшествие; слишком натянуто – скажете вы? – перечитайте «Двенадцать стульев» внимательно и вы найдете там все этапы ученичества, инициаций и посвящений; вот так и Кате попался достойный ученик, я ведь тоже стал трамплином для многих женщин, многие из которых так об этом и не подозревают, впрочем это уже не моя забота, точно также, как и Катю не заботило, понимаю ли я все, что она проделывала со мной в символическом пространстве, я думаю, что она и сама не сознавала этого. Она просто любила, любила, как немногим это дано – безжалостно и самоотверженно, но меня так и терзает загадка, чем заслужил я подобную любовь…
[1] Дух – так воины-афганцы называли душманов.