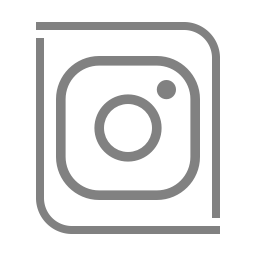Часть 2.
«Способные висеть на волоске,
способные к обману и тоске,
способные к сношению везде,
способные к опале и звезде,
способные к смешению в крови,
способные к заразе и любви,
напрасно вы не выключили свет,
напрасно вы оставили свой след,
знакомцы ваших тайн не берегут,
за вами ваши чувства побегут».
Иосиф Бродский
1.
Это страшное слово – свобода…
В определенные периоды истории, когда происходит общее ослабление социальных связей: революции, гражданские войны, обвал столпов нравственности, мы видим повышенную концентрацию неприкаянных людей, из них лишь немногие обретают устойчивость в движении, свой дом бытия на колесах, большинство же готово променять ужас неприкаянности на любую степень послушания, ведь свобода гораздо ужаснее, чем мы привыкли думать – взывая к ней, возводя ее в ранг сверхценности, мы, порой не в состоянии даже представить с каким монстром заигрываем, недаром в древнегреческих мифах Медуза Горгона убивала горемыку-искателя приключений своим взглядом, и взгляд этот нес ни что иное как свободу, да-да, шквал абсолютно ничем не обусловленных выборов, предстающих тотчас после выпадения из уютных уз обусловленности, заставляет человека застыть на месте, окаменеть в буквальном смысле слова… Так вот, пускаясь в непредсказуемое путешествие по лабиринту своей памяти, оживляя либидозной энергией все его закоулки и тупички, делая возможным пересечение каждой траектории с любой другой, я пробуждал еще один лик Великой и Ужасной – Горгону, некогда обезглавленную Персеем по наущению ревнительницы порядка и закона Афины (тоже, кстати, лик Великой Богини), этот сюжет происходил еще когда из хаоса первобытных ощущений и образов вырисовывались, благодаря моим родителям, некие абстракции: правильно-неправильно, хорошо-плохо – кроха сын подходил к отцу, и тот в лад Маяковскому объяснял как жить в этом мире; теперь же я вновь и вновь поливал живой водой, что была энергией моей памяти, голову Медузы, и она возвращала мне свои дары. И вот, в конце первой части я не то, чтобы совершенно оживил Горгону, но изрядно растормошил ее, так что передо мной вдруг открылось невероятное число равнозначных выборов, заставив меня окаменеть в страхе и трепете – я не мог решиться потянуть ни за один конец клубка моих воспоминаний, ибо их было неисчислимо много, и каждый вел в свою сторону, хотя я и знал, что где-то они все пересекаются между собой. Это еще не настоящая свобода, это пока только намек, намек далекий и неясный, но и его хватило на то, чтобы несколько недель я находился в ступоре, взирая на всю открывшуюся мне картину разом и не зная с чего начать. На помощь пришел Пегас, это крылатое дитя Медузы, однако взнузданное той же Афиной, а потому хоть и свободное, но лишь отчасти, из-под его легких копыт выскочили странички небольшой пьесы Горького, в одном из сюжетов которой знаменитый писатель, приехавший на дачу к приятелю, жалуется: «Потерял я своего читателя и теперь не знаю, брат, о чем писать», на что тот дает гениальный совет: «А ты так и пиши, мол, - ничего не знаю!» Вот я и пишу… а написав, испытываю небольшое облегчение, некую долю подвижности в окаменевших суставах и связках смысловых конструкций, захваченных вереницей образов, хватаюсь за первый попавшийся образ и, забывая на миг, что дальше будет еще сложнее, если мне не удастся стать профессионалом неприкаянности, готовым начинать каждый новый день и час заново, а таковой была моя учительница Катя, унаследовавшая все ипостаси Великой Богини, а значит, и Горгону; так вот – я хватаюсь за первый попавшийся образ и попадаю в осень две тысячи третьего года, в ту благословенную осень, когда в мою жизнь вошла Маргарита.
Она была помешана на Достоевском. Я тогда нигде не работал, точнее, был хозяином маленькой фирмы, где появлялся два раза в месяц, чтобы забрать прибыль, которой нам хватало на съемную квартиру и ежедневные ужины в ресторанах; часов до двух я валялся в кровати, лениво почитывая книгу или просматривая видеокассеты со старыми добрыми советскими комедиями, затем принимал ванну, и так как-то время приближалось к четырем часам: приходила из Университета Рита, мы пили кофе, заказывали такси и ехали, часто простаивая в длинных пробках, нас это не беспокоило, мы целовались на заднем сиденье, не замечая времени; мы ехали из нашей маленькой уютной квартирки на Московском проспекте в центр: на Вознесенский, на канал Грибоедова, на Владимирский, на Васильевский остров… ей непременно нужно было разыскать, например, дом, где мадам Рейслих сдавала комнаты Свидригайлову, или дом старухи процентщицы, все дома Шиля – тот, где жил Раскольников – на углу Вознесенского и Малой Морской, и другой – где жил сам Федор Михайлович, мы гуляли, фотографировали виды сумрачного города, опоясанного гирляндой фонарей, мы были беззаботны и счастливы, заходили в ресторанчики и кафе: такие, чтобы название непременно было кудрявым, - настаивала моя девочка, она сыпала без умолку фразами из романов великого писателя, фразами также кудрявыми и затейливыми: что же это вы, милостивый государь, вояжируте? – обращаясь ко мне, когда я, бывал застигнут врасплох каким-нибудь ее вопросом, погрузившись в свои думы… очень даже бойкая барышня (про официантку в кафе), однако же в этом сумнительном заведении, поди, и штуки случались!.. Выжига, как есть выжига! – кивая в сторону подвыпившего прохожего… вряд ли она сама понимала смысл многих кучерявых словечек, но мы смеялись, мы нагуливали аппетит, чтобы приехав заполночь домой, наброситься друг на друга прямо в прихожей, лихорадочно скидывая одежду, она была сказочно хороша, я перестал сравнивать ее с Катей, как сравнивал до нее огромное количество женщин, она внесла в мое отношение к женщине ту безусловную уверенность, которой мне так не доставало раньше, я обрел все повадки альфа самца, который ни минуты не сомневается, что женщина не просто уступает твоим желаниям, но чувствует, что просто обязана тебе отдаться и эта обязанность для нее – наисладчайшая, я обладал ею подолгу, наслаждаясь чувством хозяина и положения и своей страсти, поспешность, неловкость, опасения, что я не смогу ее удовлетворить: всей этой дури для меня уже не существовало, впрочем многому меня научила еще Катя, которой понадобилось немало времени, чтобы вышибить из меня тревожность, страх оказаться не на высоте, она учила меня не заботиться об ее удовлетворении, понять, что все эти человеческие заморочки, которые Толковательница потом объясняла все тем же страхом кастрации, страхом сына-любовника перед Великой и Ужасной, не имеют природных, инстинктивных корней; Катя научила меня наслаждаться процессом и заботиться прежде всего о собственном наслаждении, ибо в сексе каждый должен как и в жизни вообще отвечать только за себя, это простое природное правило заново открыл для нашей эпохи великий ученик Фрейда Вильгельм Райх, отец сексуальной революции, закончивший свои дни в американской тюрьме пятидесятых годов за слишком, по тем летам, вольнодумные взгляды, преданный анафеме властями демократичнейшей из стран, еще и сжегшими его книги, через пять лет последует раскаяние и пьедестал, но Райха уже не будет в живых. Катя не читала ни Райха, ни его ученика Александра Лоуэна, доказавших, что мужчина, озабоченный удовлетворением женщины, обслуживающий женщину, желающий выставить себя суперлюбовником – всего лишь жалкий трус, в глубине души оставшийся заложником Великой Матери, либо латентный гомосексуалист, вытесняющий в бессознательное свою тягу к мужчинам, она просто жила в согласии с самой природой, из которой и черпала мудрость, опыт и саму свою женскую суть, перед которой не мог устоять ни один мужчина, многие отдавали жизни за один только раз с ней, в этом она была настоящей Клеопатрой: «скажите, кто меж вами купит ценою жизни ночь мою?» - покупали, взять хоть того летчика, который нарушил все законы военного времени, взял ее в вертолет и прочесывал под прицелом душманов окрестности места, где меня взяли в плен, его сбили на обратном пути, странно еще, что не во время поисков, он изведал ее любовь всего дважды, после чего, потеряв голову пошел не только на должностное преступление, но на верную гибель, может быть, он надеялся на то, что погибнет в ее объятиях? – еще одно странное обстоятельство: ни я ни дух не слышали шум вертолета, Катя попросила вдруг ее высадить, доверяя какому-то неясному чувству, что я могу быть где-то рядом, но подлетать близко нельзя, несколько километров она шла наугад, и откуда у нее была эта уверенность не только что я там, но и что вообще жив, и на что она надеялась? ведь не знала же она заранее, что со мной будет один только пожилой и похотливый дух… нет, не знала, но чуяла, как волчица чует своих детенышей еще за километр; сама природа научила ее любить мужчин, мужчин вообще и каждого конкретно, научила ее гармонии отношений – мужчина вырастал и преображался рядом с нею, даже такой безнадежный мальчик и маменькин сынок как я возмужал благодаря тому, что Катя увидела в моей судьбе вызов любви; не существует секса без любви! – помните, она произнесла эту странную для меня тогда фразу на набережной Карповки в марте восемьдесят второго? – она не могла мне объяснить, что лишь та женщина, которая любит всех мужчин, мужчин вообще, способна любить конкретного мужчину и лишь тот мужчина, который любит женщин и освободился от всяческих обид на мать, мифологических страхов перед Великой и Ужасной, способен по настоящему полюбить конкретную женщину, полюбить, как могут лишь немногие, без липких двойных стандартов, которыми пропитаны девяносто девять процентов всех взаимоотношений в наш век, оторванный от живых инстинктов; Катя не могла мне объяснить это, она не читала многоумных психоаналитических книг, она просто знала это, знала всей душой и именно это позволило мне тогда, в марте восемьдесят второго поверить ей и не сломаться, хотя мой ум и протестовал и сомневался, и еще множество раз этот порочный, хитрожопый ум ввергал меня в сомнения, ревность, зависть, ненависть, - после ее слов это была лишь поверхностная пена, ибо в глубине души, в самых донных ее уголках жила истина, переданная мне из живого источника – любящего существа, целостного в своих чувствах, а целостной она была со всеми, даже если ее желания длились лишь несколько минут… Блаженны вы, коль уж так веруете, или уж очень несчастны: - это уже голос Риты, цитирующей старца Зосиму, прерывал вдруг поток моих воспоминаний, мы сидели в маленьком ресторанчике «У Степаныча» на канале Грибоедова, и был ноябрь две тысячи третьего; я натужно улыбался и вослед за Иваном Федоровичем Карамазовым удивлялся: Почему несчастен? – Потому что, по всей вероятности, не веруете в бессмертие вашей души, - отвечал нам с Иваном почтенный старец… Не веровал и не верую, из-за чего через два года у нас с Ритой вышел столь глубокий конфликт, что мы чуть было не разошлись, впрочем эта история связана с событиями о которых не готов я еще рассказать, тогда же «У Степаныча» я отшучивался, не желая влезать во всю глубину столь деликатного вопроса и причинять боль Рите, ведь она-то веровала, так веровала, как я верил в любовь женщины, в любовь Великой Богини к тому, кто способен вырваться из ее силков…
2.
Странным находил я страсть Риты к Достоевскому, хотя с каким-то тревожным, но и губительно-сладким чувством потакал этой страсти.
Петербург Федора Михайловича — это город, в котором невозможно жить человеку, в нем невозможно найти ни семейного очага, ни просто человеческого жилья, и жутко становится оттого, что герои живут то в "гробу", как Раскольников, то в уродливом "сарае", как Соня, то в "прохладном углу", где обитает Мармеладов, даже совсем не бедный Свидригайлов свою последнюю ночь перед самоубийством проводит хоть и в отдельном номере, но "душном и тесном"; Петербург Достоевского — этот город уличных девиц, нищих бездомных детей, трактирных завсегдатаев, ищущих в вине минутного забвения от тоски, атмосфера этого города — атмосфера тупика и безысходности, зачем искать ее вовне, когда она то и дело подступает изнутри? - "некуда идти человеку, а ведь это надобно" – исповедовался Родиону Раскольникову Мармеладов, и ведь верно говорил отставной чиновник, тесно, ужасно тесно!, если вчувствоваться в недра души своей, - мы с Ритой понимали это и, как будто расковыривая зудящую рану со сладострастием мазохиста, искали мы места с убогими серыми или темно-желтыми домишками, стенами без окон, тупичками, тут же заглушали подступающую тоску – тоску бытия, или тоску по бытию? – поцелуями, ласками и, доведя друг друга почти до исступления, выскакивали, разгоряченные, на шумную улицу или проспект, ловили такси и, примчавшись домой, наслаждались друг другом уже в прихожей, не закрыв двери на ключ… не в этом ли уловка Василиска – отвлекать человека от отчаяния, от тесноты и удушливости повседневности, как там Мармеладов говаривал: "а разве сердце у меня не болит, что я пресмыкаюсь втуне?" – вот мы и утешали себя, лечили сексом от боли сердечной, отвлекаясь от ужаса перед Ничто, ожидавшего нас, как и любого смертного впереди; всяк ведь утешается по-своему, кто уходя в иллюзии загробной жизни и внетелесного опыта, кто заливая отчаяние водкой; нашей верой была телесность, именно тело помогало пережить предельную сопричастность чему-то великому и хрупкому, что не хотелось никак называть, никакими высокими и, вместе с тем, затертыми словами, будь то бог, благодать, самадхи, мы просто таяли друг в друге, постигая одноклеточное, предельно простое единство друг с другом и миром, о, это был далеко не банальный секс в сто двадцать шесть секунд, после которого выкуривают сигарету или, отвернувшись к стене, засыпают, нет, мы нашли друг друга, открыли друг в друге сумасшедшую силу любви, да я смею называть это именно любовью, той любовью, которой жила и дышала Катя, первая моя учительница, вечно доступная и вечно ускользающая мечта, воплотившаяся, вдруг, в Рите через двадцать лет, а Рите и было как раз двадцать, и я порой думал – уж не является ли она нашим с Катей творением - вдруг флюиды любви, которая застигала нас с Катей в восемьдесят втором на крышах, чердаках и в подвалах, проникли в лоно матери Риты, которое возделывал ее отец как раз в те самые минуты? – все это, конечно, бред, но мы были счастливы, мы раскачивали качели бытия, переходя от атмосферы тесной, всепоглощающей тоски до великих взлетов счастья и растворения в одноклеточной безличности: человеческий удел – скитаться где-то между, и я так бы и скитался, не пойди я тогда на дискотеку во Дворец Молодежи, не вылети из института, не попади в Афган и не поскитайся по чужим странам в нищете и ощущении полного падения и опустошения: мы как-то прогуливались с Ритой по набережной Лейтенанта Шмидта и моя девочка процитировала одно место из «Идиота»: «а ведь верно про тебя, Ганька-подлец, говорят, что ты на Васильевский за три рубля поползешь?» - а я ведь полз, и не за три рубля, а за три тумана[1] – что можно было на них купить, кроме сухой лепешки – нес какие-то бумажки из конца в конец Исфахана, в то время, когда моя возлюбленная услаждала персов в борделях и кабаках; там хоть не было войны, но и там продолжались мои мучения… и мое счастье - когда Катя вырывалась на час-другой ко мне… с какой же силой страсти она отдавалась мне, уже уставшая от бесчисленных ласк и чужих поцелуев; так я раскачивался между полюсами тогда, продолжал раскачиваться, хотя несколько по иному, и в две тысячи третьем году, но разве по сути это было чем-то иным? – было, только тогда я не мог еще осознать эту тончайшую разницу, эту грань между хлопком одной ладонью – правой или левой… этот нектар жизни, которым никогда невозможно напиться, который хочется собрать про запас, но вот он все выскальзывает и выскальзывает прямо из рук, хотя ты и чувствуешь остро как никогда, что вот он – в самих руках и есть…
3.
Со времен Платона, а возможно и задолго до того, любой думающий человек рано или поздно сталкивался с понятием «блага», с тем, что составляет высшую ценность жизни. Еще тот же Платон отмечал, что благо для всякого человека субъективно, хотя и существует некое общечеловеческое благо – Единое. Затем на двадцать столетий в Европе и ее колониях вопрос решился просто и однозначно церковными заповедями, хотя я и писал уже, что рассматриваю то, что открылось, или было расчетливо подсунуто параноику Моисею как «десять заповедей» - как простую экономическую схему, которая привязывается как к субъективному, так и к общечеловеческому благу с помощью весьма хитрых выкрутасов – введения понятий греха и покаяния, что на руку определенным силам и структурам типа церкви и тем, кто за ней стоит, но конкретного человека лишь вводит в заблуждение, превращая из индивида в стадное существо, ограниченное десятикратными «не», которые тот продолжает ежедневно нарушать, чтобы потом испуганно или лениво каяться, по камушку строя пирамиду церковной и светской власти, замкнутый круг… в конце двадцатого века усилия экзистенциалистов привели к взрыву идеологии нью-эйдж, согласно которой все, что с тобой происходит, является благом априори, ибо ты сам выбрал свою судьбу, сознательно или бессознательно, и теперь проходишь некие уроки, которые зачем-то понадобились твоей душе... Честно говоря, меня мало интересует как церковь, так и нью-эйдж, да и Платон тоже, но вопрос «блага» все же периодически занимает меня: было ли для меня благом отчисление из института, попадание на войну, в плен, мыкание по чужбине – все то, что стало следствием сумасшедшей и подозрительной любви к необыкновенной шлюхе и искреннейшей и праведнейшей из блядей, каких я только знал? …возможно, не случись этого, я был бы сейчас стареющим мальчиком, невротиком и, может быть, даже кандидатом наук или бизнесменом средней руки, сидел бы под каблуком жены – стервы, а то и вовсе остался бы старым холостяком, прозябающим под крылышком престарелой матушки… было бы благом это? - нет, сейчас я мужик в полном смысле слова, я вырвался из силков Великой Матери, получил ее дары, я относительно свободен и внешне, и, тем более, в помышлениях моих, но ко всему этому я – прожженный циник, для которого относительны все категории, типа добра или зла, анархист, антисоциальный элемент, бродяга, медведь-шатун, я всегда могу достать денег на жизнь – не важно как – честно или нет с точки зрения общества; я уверен, что случись сейчас Страшный Суд, я не стал бы вымаливать себе прощения и каяться, как это случится с большинством, я не опущу глаза перед взором всевидящего и всезнающего Судии, да и не верю я ни в Страшный Суд, ни в Судию, который всех нас, согласно Писанию, спас, дабы потом судить, отыгравшись тем самым за все свои муки – но благо ли это для меня? Зачем я позволил, пусть бессознательно, пусть в полусонной сладострастной мольбе измастурбировавшегося мальчишки, взывающего о большем, запретном удовлетворении сам не ведая к кому, - зачем позволил я ворваться в мою жизнь сметающую всякую двойственность силу, зачем позвал именно Василиска, хитро расставившего свои сети, запутав мою судьбу настолько, что мне ничего не оставалось, кроме взросления? - нужно ли оно мне было такой именно ценой? – я много размышлял об этом, - не в этих еще категориях: в момент отчисления из Техноложки, в учебке под Ашхабадом, в Кабуле и под Гератом, в Иране, Париже, позже, уже вооруженный философскими и психологическими метафорами – после бесед с Толковательницей, Дедом, во время прогулок с Ритой… сейчас когда Катя навсегда исчезла из моей жизни, сделав для меня практически невозможное – ни один психотерапевт не смог бы помочь превратиться тому мальчику – невротику, каким я был в восемьдесят первом и за двадцать пять лет интенсивной терапии в того, кем я являюсь сейчас… сейчас я не взялся бы прописывать подобную сладчайшую и, в то же время, отвратительно горькую микстуру никому более, но за себя скажу, что для меня Василиск оказался однозначным благом, и я надеюсь, что он даст мне сил не переменить свое мнение…
4.
Как трудно, почти невозможно выразить тот пестрый клубок ощущений, образов, чувств, ликов, который разматывается в моей душе… то, что когда-то было близко, любимо, страшно, ненавистно… те, кого любил и ненавидел, кем играл и от кого зависел… те, кому причинял страдания, и те, от которых страдал…. любовь, которая всякий раз оказывалась компенсацией невротической ненависти, страха, зависимости, чего-то, что было незавершено когда-то: в раннем детстве, в утробе матери, в вечном мифе о Великой Богине… борьба за внимание, признание, за место под солнцем… битва каждого против всех… глубочайшее одиночество перед собственным безучастным взглядом, перед собственным сочувствующим взглядом, перед собственным уничижающим взглядом, перед взглядами: насмешливым, испуганным, печальным, гневным, понимающим... Господи, зачем я играю сам с собой в эту безумную игру? - в разматывающемся клубке сознания мелькают глаза, улыбки, гримасы отчаяния и боли, чьи-то слезы… чьи-то безудержные слезы… настоящие ли они, или это тоже часть всеобщего лицедейства?.. беспощадная, обнаженная реальность, разворачиваясь передо мной, врезается в душу тысячами личин, прячущих за собой что-то настоящее; в этот момент я понимаю, что настоящим является все в этой чудовищной, дьявольской игре, то завораживающей, то отвратительной, пьянящей и отрезвляющей, пугающей и скучной… зачем? зачем? зачем?.. я мог бы написать сотню умных ответов, опираясь на тщательно выверенные и проверенные опытом теории, впрочем, противоречащие друг другу, но сейчас все эти ответы – ложь!.. можно смотреть изнутри этого клубка, изнутри экстаза, раздирающей боли, удушающего страха, всепоглощающего интереса и безысходной тоски, можно смотреть снаружи, отстраненно: все эти взгляды равновероятно правдивы и столь же лживы, игра случая, созданная гениальным планом, где все учтено и оплачено… нет, тут явно чего-то не хватает: опять пошли описания, метафоры, а суть, которая, казалось, была наконец схвачена, - в очередной раз ускользнула, обнаженный нерв жизни, пойманной в силки осознания, опять затягивается обезболивающей коркой, и сладчайшая рана перестает кровоточить, душа погружается в привычные сумерки, умиротворяющий полумрак забвения себя… зачем нам всем этот блаженный, чудовищный, отвратительный, пьянящий и завораживающий опыт, который исчезнет некогда в земле или пепле? – он пополнит копилку коллективного бессознательного, обогатит бытие богов, архетипов и духов? – может быть затем ты явился в мою жизнь – Василиск, взломав сотни замков, запретов и предначертанный родителями сюжет бесхребетной и безопасной жизни? – нет, ты явился на мой безотчетный зов, теперь я понимаю это как никогда ясно; так кто же из нас кем играет и игра ли это вообще?
Нет у меня ответов на все эти вопросы, обжигающие обнаженные нервы вопросы, которые я истошно выкрикиваю иногда в вакуум собственного сознания, в такие минуты привычный хаос умозаключений, разрозненных представлений о себе и бытии рассеивается, и возникает впечатление, что самое сознание подобно некой фигуре, стоящей на краю бездонной пропасти и беззвучно кричащей в холодную и прозрачную молчаливую космическую бездну, кричащей не потому, что желает слышать ответ, нет, даже известно заранее, что никаких ответов и быть не может, просто нет возможности молчать, и прокричаться, выпустить запертые где-то в потаенных своих уголках слова, чтобы сотрясти пустоту, являясь единственным актером и зрителем-слушателем этой драмы – необходимо: столкнувшись с этим в себе, уже не запихнуть его обратно, в неосознаваемое; как там писал на склоне лет Хайдеггер: «не человек говорит языком, а сам язык проговаривает себя через человека»… что ж, пусть даже так, это ничего не меняет, я вспоминаю замечательные слова, которые язык проговорил через Деда: лучшее, что человек может сделать со своей жизнью, это превратить ее в авантюру, приключение, или, хотя бы, придать ей пафос авантюры – слова эти бодрят меня, и иногда, безмолвно прокричавшись в пустоту молчащего космоса, я следую совету Деда, становлюсь кочевником, не имеющим ничего своего ни внутри ни снаружи, и наслаждаюсь течением жизни несколько дней, а то, бывает, и недель, пока приходящая невесть откуда, вкрадчивая, мягко наваливающая тоска по чему-то совершенно несбыточному, чему-то предельному, окончательному не обнажает нервы, не вскрывает поток вопросов, не имеющих ответа; тогда я подхожу к краю собственной пропасти и кричу, кричу и плачу, ощущая как причащаюсь с этим криком к безжалостной и восхитительной доле человеческой…
5.
Дед… Это имя или просто слово, ибо Дед не любил имен и предпочитал полную анонимность, подобно большой капле, сорвавшейся с листочка дерева, на котором она копилась после дождя, падая на неровную поверхность, тут же разбегается десятками маленьких ручейков, так и Дед – огромный лабиринт моей памяти, пересекающийся с сотнями тысяч других лабиринтов, вот он весь всколыхнулся: в памяти ожили и забегали образы и ощущения, сталкиваясь друг с другом, порождая еще тысячи новых дорожек, ведущих в самое детство, а то и в мир фантазий и грез, я живу этим, это мой мир, мир хитросплетения вечно перестраивающихся дорожек прошлого, наезжающих на настоящее и будущее, ведь будущее зависит от переосмысления в настоящем прошлого, впрочем, это уже философско-шизофреническая попытка построить описание жизни, что вовсе не входит сейчас в мои планы, во-первых, потому, что любое описание ограничено и имеет свой контекст применения, сейчас же такой контекст отсутствует или минимален, во-вторых, потому, что – Дед… я опрометью погружаюсь в эту одну из самых крупных в моей жизни «капель» и образы текут множеством ручейков, пристроившись к одному из них, я вспоминаю его лицо, фигуру, жесты и слова, а мы познакомились в девяносто шестом году – Толковательница была еще жива тогда, но встречался я с ней реже, по ее наущению я посещал несколько курсов на факультете психологии и философии, так для себя, надежды получить диплом у меня тогда не было, я жил по фальшивому паспорту, который обошелся моему папе, обрадованному возвращению пропавшего без вести сына в копеечку, когда в конце восемьдесят девятого я приехал-таки под чужим именем из Парижа, но это уже другая история, а Дед вовсе не был дедом, в девяносто шестом ему было немногим за пятьдесят и выглядел он весьма моложаво; как-то мне довелось увидеть его фотографию начала восьмидесятых, что само по себе удивительно, так как Дед не любил оставлять следы, фотографию эту показала мне одна, как оказалось, наша общая знакомая, - вот и не сумел Дед перехитрить Поднебесную и стать человеком без прошлого, правда, он так и не узнал, что у нас общие знакомые, фотография висела у этой женщины на стене и я мигом узнал, что это – он: густые каштановые волосы, чудесная кожа, большие синие глаза, прямой нос, словом красавец мужчина во цвете лет, только тонкие губы несколько портили его; да и для пятидесяти с небольшим он был еще ого-го, правда каштановые волосы успели местами поседеть, и он стриг их коротким ежиком, лицо стало шире, на нем появились морщины, кожа перестала напоминать персик, по щекам зазмеились красные жилки, но благодаря великолепным глазам и стройной фигуре он все еще был достаточно красив, высокий - под метр девяносто, - он отличался, к тому же, прекрасной осанкой, да и та женщина, у которой висела его фотография в молодости, уверяла, что он военный, хотя одет на фото он был вполне по-граждански – темная кожаная куртка, из тех, что были в моде в восьмидесятых и джинсы; какие события сделали из него эдаким неуловимым Джо, ведомым одним лишь Гермесом? – одному Гермесу ведомо, я же все-таки, уловил его, а может он – меня, короче, мы оказались соседями на самой дальней парте в университетской аудитории: на задние парты садятся либо бездельники, чтобы скоротать пару за чтением детектива и, в то же время отметится в журнале посещаемости, либо такие вот пришлые люди, как мы. Молодой преподаватель читал лекцию по основной, как ее называют, работе Хайдеггера «Бытие и время», которую он написал, будучи совсем еще молодым, задолго даже до своего штандартенфюрерства – проникнувшись в тысяча девятьсот тридцать третьем идеями национал-социализма, Мартин Хайдеггер, гордость философии третьего рейха, ректор Берлинского университета, носил погоны СС и чуть было не угодил под трибунал в сорок пятом, если бы не заступничество Сартра и еще десятка мировых ученых; я считаю, что ранний Хайдеггер еще не столь мудр, хотя умен чрезвычайно, вот поздний Хайдеггер, увидевший корень бытия в языке… да что я все о Хайдеггере, право!.. так вот во время лекции Дед, которого я еще не знал, несколько раз толкал меня локтем и шептал: - Вот тут он, милай, маху дал – и так несколько раз; затем в перерыве мы будто случайно оказались за одним столиком – знаете такие столики были, за которыми надо стоять? – в университетском кафетерии, и прихлебывали кофе, точнее, его подобие, тут Дед подмигнул мне и, обращаясь так, как будто мы были сокурсниками, вышедшими на перерыв, а не видели друг друга первый раз в жизни, сказал: - Ты понял-то, чего я тебя локтем толкал? – Нет, – я усиленно затряс головой, я и саму лекцию-то понял плохо, так только – пару мыслей. – Ну так слушай: Хайдеггер напрочь упустил из виду экзистенциал Дороги, - слово Дорога мой случайно-неслучайный собеседник выделил интонацией и многозначительным, я бы даже сказал, комичным поднятием указательного пальца, а что такое экзистенциал я так до сих пор и не понимаю, хотя слышал его на лекциях, да и от Деда много раз, - так только нечто расплывчатое и, в то же время, неподвижное и монументальное рисуется в моем мозгу, впрочем, это не столь важно, а незнакомый мне доселе человек вкрадывался мне в душу своими речами, с видом таинственным и заговорщицким, будто доверял мне, как самому близкому человеку, (забегая вперед, скажу, что я в тот момент действительно был для него самым близким, как через час мог оказаться кто угодно другой) священную тайну, я плохо понял тогда его слова, но доверием проникся действительно безграничным, он попал в десятку, попал в ту трещину души моей, которая осталась не залатанной Толковательницей, и вот что говорил он тогда: - Проект подлинного бытия, который он так тщательно разрабатывал, предназначен для оседлого человечества, пойманного в силки и одомашенного, и прогрессирующее забвение бытия коснулось не только заботы и вины, а, в первую очередь, Дороги: она самоупразднилась в век просвещения, гуманизма, - ну о гуманизме разговор особый, и прогресса, что знаменовало эпоху Графиков и Расписаний, - эти два слова также были произнесены с пафосом и отмечены вознесением указательного перста, - ведь современные трассы, это уже не Средневековые Дороги, они прокладываются так, чтобы обойти стороной испытания; идеальный пассажир современных трасс неподвижен, он даже не входит во внутреннее время пути, из пункта А в пункт Б перемещается только тело, а усилия транспортных компаний направлены на то, чтобы оградить перемещаемое тело от внезапной и труднопредсказуемой полноты присутствия: иначе возможно, что в пункте Б придется иметь дело с совсем уже другим человеком, чем тот, кто выехал из пункта А, но эпоха Графиков и Расписаний просто обязана обеспечить минимальную самотождественность перемещаемого лица во всех пунктах назначения… - Простите, - перебил я его, - а что вы имеете в виду под труднопредсказуемой полнотой присутствия и самотождественностью? – А ты разве никогда не испытывал это? – он хитро прищурился и добавил – ты под дурачка-то не коси, если бы ты это никогда не переживал, я бы к тебе и на десять шагов бы не подошел… - А почему вы знаете, что я испытывал? – Глаза, брат, и атмосфера: меня не обманешь, на мякине не проведешь… и что было отвечать, все было прозрачно: Катя, война, Толковательница… да чего стоит только мое первое превращение в подъезде на Песочной набережной, вот уж воистину вышел пассажир из пункта А, то бишь Дворца Молодежи, одним человеком, а домой вернулся, к слову сказать, через несколько суток и то, усилиями милиции – родители обзванивали все больницы и морги, человеком уже совершенно другим: не спасла эпоха Графиков и Расписаний, упустили ее слуги вечных путниц, какой была Катя, менявшаяся непрерывно и постоянная своей изменчивостью…
6.
Вот так началось мое знакомство с Дедом, которое переросло в ученичество, ученичество порой жесткое, выбивающее не только из оседлости: казалось, куда меня после восьмилетних мыканий по свету еще выбивать? – а ведь было еще куда, ой как было, но из пут любой предсказуемости и однозначности, это было продолжением пути, на который вывела меня Катя, и если уж говорить начистоту, то ученичество у Деда было даже более тепличным, что ли, хотя никак не безопасным, Дед любил приговаривать древнюю даосскую мудрость: «Уважать родителей легче, чем их любить, любить родителей легче, чем их забыть, забыть родителей легче, чем заставить родителей забыть о тебе, заставить родителей забыть о тебе легче, чем самому забыть обо всем в Поднебесной, забыть обо всем в Поднебесной легче, чем заставить всех в Поднебесной о тебе забыть», я ухожу по этой Дороге все дальше, иногда петляю, вот сейчас пишу текст – явный след, хотя и надеюсь, что останусь неузнанным, но до сих пор не могу взять в толк – зачем вычеркивать себя из Поднебесной? – я два года следовал за Дедом из города в город, в каждом из которых он, исключительно забавы ради, так как он считал, что стер себя из списков, графиков, расписаний, - ан нет, фотография-то осталась, ставил меня в ситуацию авантюры, приключения, риска… как я при этом буду решать свои проблемы – личные, денежные, иные – это было исключительно моей заботой и его не касалось, он же видел свою задачу в том, чтобы обнаружить и оборвать мои привязки к чему бы то не было, для этого он ставил меня порой на грань смертельного риска или риска уголовного, мне еще два раза после возвращения в Россию, пришлось менять паспорт, а вы, наверное, представляете, что без очень больших денег в нашей стране эта задача почти невыполнимая, мне же она удавалась… особенно интересовала Деда история с Катей, он видел в ней знак и свидетельство моей незаурядной подготовленности к ученичеству, только Дед старался не трактовать и не объяснять, как это делала Толковательница, его инструментом был внезапный поступок, когда он понял, что с помощью Кати я сумел отвязаться от целой бездны привязанностей, без которых не мыслит свою жизнь обычный современный человек, а Толковательница помогла мне вылезти из силков Великой Матери, Дед сосредоточил внимание на единственной крепкой зацепке: на женщинах, на самой Кате, которая уже не в ипостаси Великой и Ужасной, но в архетипе женщины-учителя – Софии прочно сидела в глубинах моего бытия и сознания; а как же потом отношения с Ритой? - неужели усилия Деда были напрасны? - спросите вы, и я отвечу, что не нужно торопиться, все, что было после Деда, происходило и происходит уже по несколько иным законам, хотите - верьте, хотите - нет, а проще – следите за тем, что будет разворачиваться дальше… в каком из возможных дальше – это уже моя забота, мое плавание, уже задним числом, по каналам и протокам сознания, и то, ошибся Дед или нет, точнее, ошибся ли я, когда понял, что обучение окончено и возвратился – повернул с полдороги в Питер – Дед ждал меня через день в Иркутске, так вот, если мне повезет еще раз и расходящиеся тропки сознания выведут меня туда, где я нахожусь сейчас – не правда ли – достойный коан? – тогда и видно будет, что и как; а остановился я неожиданно, в декабре девяносто восьмого я ехал в поезде из Новосибирска в Иркутск, в купе я ехал один, играло радио, и вот, вдруг, где-то после Канска, зазвучала надрывным воем гитара Владимира Кузьмина: «Я не забуду тебя никогда, - твою печаль, твою улыбку, слезы. А надо мной гудят печально провода, и поезд мчит меня в сибирские морозы», и схлопнулось… мне трудно описать словами то, что я пережил в этот, казалось бы, банальный внешне момент, но постараюсь: я лежал на полке в полудреме когда прозвучал первый куплет песни, да все было просто, обычный синхронизм – поезд действительно вез меня в сибирские морозы, но этот внешний синхронизм запустил какую-то сложнейшую реакцию, приведшую, как говорил Дед к внезапной полноте присутствия: началось с того, что в сознании одновременно, насколько это конечно, возможно, вспыхнули лица тех женщин, которые были у меня после Кати и в период моих отношений с Катей, она поощряла мой опыт в этом деле и многажды сама готовила женщин для меня, иногда устраивая небольшие оргии для себя, меня, и еще нескольких женщин и мужчин, это всегда были гетеросексуальные связи, тем не менее, первые разы, которые последовали вскоре после нашей первой с Катей ночи, приводили меня в панику; вместе с этими лицами вспыхнули и другие – матери, бабушек, тети Веры, других женщин из моего детства, одноклассниц, женщин, которых я желал пусть хоть только долю минуты, тех вослед которым оборачивался… все они вместе непостижимым образом, будто причудливая переливающаяся мозаика, составляли Катин лик; секундой позже я ощутил, как буквально взрываюсь, взрываюсь в окружающее пространство каждой клеточкой своей, до боли, сладчайшей боли, боли горькой утраты, боли непобедимой усталости, боли безнадежности и обреченности, боли оргазмического пика: в одно и то же время я переживал ко всем им и, конечно же, к Кате, любовь: плотскую и платоническую, безнадежную и сбывшуюся, скрываемую и показную, а также ненависть, лютую злобу, восхищение, экстаз, брезгливость, презрение, отчаяние, печаль, ревность, обиду, торжество и бог знает сколько еще всего, - как только мой организм справился с таким переживанием? – потом, вдруг, все стихло, как после бури, длившейся всего минуту, минуту – вместившую вечность, и тут я что-то понял, нет, не сформулировал мыслью, а понял по существу, я бы мог сказать, что я понял ВСЕ, но слово ВСЕ бессмысленно, так как ничего не объясняет: я понял КУДА я живу, не зачем, не почему, а именно КУДА, и это оказалось очень просто сформулировать словами – я живу ТУДА, КУДА и живу, вот до чего просто все оказалось, умом понять это не сложно, но я пережил, хотя бы мгновение я жил этим пониманием, этим последним уроком моей беспощадной любимой учительницы Кати, нет, предпоследним, все же, о последнем я пока умолчу. Пока ехал до следующей станции, глуповато улыбался, там сошел с поезда, дождался встречного и, доехав до Красноярска, взял билет на самолет в Питер, где и живу с тех пор, где встретил в две тысячи третьем Риту, которая сидит сейчас рядом и дремлет, опершись о мое плечо…
7.
Наверное, каждому знакомо состояние, когда ты не спишь, а кемаришь, то есть краем сознания сохраняешь прерывистую связь с «разделенной реальностью» и, в то же время, эта связь порой до неузнаваемости изменяется каким-то просоночным сюжетом, в котором происходят события полусна, имеющие свою причудливую логику… сегодня, а пишу я эти строки двадцать девятого декабря две тысячи седьмого года в одном из отелей на Канарах, где мы с Ритой благополучно приземлились утром, дабы встретить Новый Год в экзотической обстановке – давняя мечта моей девочки, уже вечер, солнце скрылось в океане, волны плавно накатывают на берег и по телу разливается блаженная истома растворения в субтропической ночи, так вот сегодня в самолете я, недавно разговаривающий с Риткой, забылся коротким полусном, чем-то там я отдавал еще себе отчет, что лечу в самолете, но это зыбкое сознание оттенялось сценой, в которой мне очень важно было задать моей спутнице странный вопрос: зачем же ты все-таки ко мне приходила? – и сам вопрос-то относился не к Рите, а к совсем другой женщине, вернее помню я ее семнадцатилетней девушкой; с трудом размыкая веки, я сказал-таки эту фразу, - Когда? – недоуменно отвечала моя красавица, и оба мы засмеялись над нелепостью сразу же раскрытой глупости… глупости ли? – ведь зачем-то в эту полудрему мне явилась девушка, которую я видел в последний раз ровно двадцать шесть лет назад, она приходила ко мне домой перед новым тысяча девятьсот восемьдесят вторым годом, родителей дома не было, я смущался и робел, я не знал, что сказать этой Гале, а она сидела на моем диване, уютно поджав под себя ноги, я был влюблен в нее, не так сильно, как в Катю, но она была девушкой моего лучшего друга, я дико завидовал ему, с первого класса мы были вместе и в школе и во дворе, хулиганили, разбивали лампочки в подъездах из рогаток, качались на таганке над вонючим прудом, падали, сорвавшись, в этот пруд, сбегали с уроков, мечтали о путешествиях и открытиях, о больших судьбах ученых – оба мы зачитывались романами Даниила Гранина, и вот он поступил в Университет на МатМех, а я сдрейфил и в последний момент подал документы в Техноложку, оба мы были неудачники по части девушек, оба – робкие и стеснительные и вот уже после первых недель учебы Борька стал гулять с симпатичной сокурсницей Галкой, ой как я ему завидовал, я не с кем еще не гулял, хотя многие девушки на факультете мне нравились, что уж говорить о Кате, но это была принцесса не для меня, как я тогда думал; часто мы бродили по паркам Питера втроем: я, Борька и Галка, они – обнявшись, Галка все смеялась, что сосватает мне кого-нибудь из подружек, но почему-то не торопилась меня с кем-нибудь знакомить, ее лукавые карие глаза останавливались на мне порой дольше, чем я мог выдержать и я отводил взгляд и краснел, да я бы тогда лучше повесился, чем дать повод лучшему другу подозревать меня в вожделении его девушки… и вот она сидит у меня на диване, строит глазки, - позвонила полчаса назад: - Мы с Борькой поссорились, может посоветуешь что… я зайду? – Конечно! – сердце бешено заколотилось, но я взял себя в руки и пошел ставить чайник, она пришла и первым делом заявила, что с Борькой у нее все кончено, я, конечно, горячо возражал, обещал их помирить во что бы то ни стало, а сам-то ведь догадывался в чем дело: Борька хоть и гулял с ней и даже целовался при мне, но признавался, что у них ничего серьезного еще не было, и что он собирается жениться на Галке, и вот только после свадьбы… но я-то видел, что она хотела, не обязательно Борьку, она вообще хотела, я видел это, но не смел ни себе, ни другу в этом признаться, и вот она сидит у меня на диване поджав свои аппетитные ножки в белых колготках, и ее круглые коленки мозолят мне глаза, а она произносит медленно, растягивая слова: - Сядь рядом со мной – я неловко присаживаюсь, держа дистанцию, а ее глаза смеются: - Да не бойся ты меня, глупенький, обними лучше, я Борьке ничего не скажу! – меня как током ударило; пять секунд немыслимых борений между хочу и нельзя, между безумно хочу и очень нельзя, между неистово хочу и очень-очень нельзя – я вскакиваю с дивана и от волнения переходя на фальцет, пищу: - Ты что, Боря ведь мой лучший друг! – она тоже медленно встает с дивана, поправляет юбку и, проходя в прихожую, презрительно бросает: - Откуда вы только такие сосунки, беретесь?- о как точно она поразила мишень! - я ведь знал, что я сосунок, но ни за что бы не признался никому, даже Борьке, которому я тут же и позвонил, я, конечно, не рассказывал про то, что было с Галей, сказал только, что она заходила попрощаться – теперь я уже не хотел их мирить, я не хотел такой жены своему другу, мы напились в хлам, потом еще пили вместе несколько дней подряд, каждый по своему поводу, потом едва сдали сессии; нет этой девочке далеко было до Катюши, я довольно быстро забыл потом этот эпизод, да так до сих пор и не вспоминал, и вот те на: в самолете по пути на один из самых престижных курортов, пройдя огни и воды в отношениях с женщинами, посапывая на плече у любимой женщины, вдруг вернуться на мгновение в свою скованную железными кольцами Кроноса юность: зачем же ты все-таки ко мне приходила?.. а действительно: зачем? – только не тогда, а сегодня утром, в самолете? Я ищу зацепку, чтобы понять смысл этого сна и снова возвращаюсь в университетскую кафешку, где Дед критиковал «Бытие и Время» Хайдеггера; он говорил тогда: - А ведь Дорога, которую Хайдеггер так и не упоминает, знаменует выпадение из Времени Циферблатов и вхождение в поток происходящего, отдаленный от мира повседневности, столь не любимой штандартерфюрером; дело происходит примерно так: все привычное, связанное с жестким расписанием будней перестает быть единственно-возможным и пресловутая хайдеггеровская «озабоченность» разжимает свои тиски. – Дед опять хитро подмигнул, но я не понимал куда он клонит и я уже было подумал: «вот ведь, заносит на филфак всяких шизиков, тщащихся удивить мир построением доморощенных теорий, опровергающих классиков!», возможно, он и прочитал на моем лице это выражение подступающей скуки, а я к тому времени уже не отличался особой вежливостью, мог послать подальше, а в случае навязчивости собеседника и по морде заехать, он, несомненно, заметил мое вялое внимание и, хохотнув, мягко похлопал меня по плечу и, как будто прочитав мои мысли, произнес: - Ты погоди меня в дурачки-то записывать, я ведь для тебя именно говорю… так вот: как только я действительно оказываюсь в Дороге, все, что я ежедневно делал, теперь отложено, оно скукожилось, поникло, утратило настоятельность настоящего, отсрочено не только то, что я делал, но и привычный ход мыслей – этих паразитных ожиданий, заполнявших все пустоты в графике ежедневных дел; Дорога еще не привела меня никуда, но уже вызволила из-под пресса времени, я освободился от всего, чем был занят и я смотрю на все, что осталось без меня отстраненно и безучастно, - Так это и ежу ясно! – А если ясно, то тебе должно быть знакомо предчувствие кочевника… – Что за предчувствие? – Звучит примерно так: «а вдруг без меня прекрасно обойдутся и те, кому я обещал, и те, кого я приручил?», это только предчувствие, но оно истинно, просто без Дороги у тебя не было времени подумать об этом… - Я перебил его: -Послушай, дядя, если уж ты заметил блеск моих глаз и как ты там выразился «атмосферу», то мог бы догадаться, что у меня-то как раз время подумать было и не однажды, и вся твои азбучные истины я переживал печенками сотни раз! – я шумно поставил стакан на столик и развернулся, чтобы идти, но слова, которые прозвучали мне в спину, заставили меня гипнотически застыть: совершенно другой тон, очень серьезный, не допускающий возражений, я понял, что слова эти произносит человек, который не только знает больше моего, но который гораздо сильнее меня, а таковых после возвращения на родину и анализа у Толковательницы, я не встречал еще: - Будешь звать меня не дядя, а Дед, про то, что ты пережил многое вижу, пережил да не допережил, и вот еще: послезавтра я буду в Воронеже, найдешь меня по этому адресу… - я обернулся и, пока он дописывал на клочке бумаги адрес, тихо и внятно произнес: - договорились.
8.
Дед умел очень четко формулировать мысли. В частности про Дорогу он говорил, как про лучший из способов изменения состояния сознания, особенно если странник проводит в пути больше времени, чем в пунктах назначения и, особенно, если каждый следующий пункт назначения неизвестен, все это было мне знакомо, более того, мне было понятно и то, что Дорога – это не обязательно физическое перемещение, путешествовать можно и по социальным мирам, и по внутренним пространствам, что правда, гораздо сложнее, но этому искусству научила меня Катя, а позднее Толковательница и, конечно же, Василиск… Дед добавил в это искусство четкое различение трех возможностей, которые предоставляет Дорога: двигаться спиной вперед - возможность сжать объекты озабоченности в точку и вырваться из окружения, преобразовав его в линию удаляющегося горизонта, «бытие-навстречу» - резкое ослабление ежедневных обязательств, направленных на самого себя, и, наконец, самая драгоценная возможность, которая по силам только опытным кочевникам - оглядываться по сторонам; вот я сижу сейчас в бунгало, слушаю, как шипит прибой и пытаюсь оглядеться по сторонам, здесь не Питер, не та Европа, что катится к сладострастному разрушению, под сокрушительными волнами «золотой дремотной Азии», которая и накатывает эту самую дремоту, забвение ценностей и смыслов, обваливающую столпы нравственности вопреки скудным попыткам немногих действительно совестливых благодетелей сохранить то самое «подлинное бытие», о котором толковал Хайдеггер, большинство прячется от самого видения падения цивилизации в многозаботливость, болтовню, близорукое времяпровождения в тусовках и разного рода шоу – от телевизионных до «эзотерических»; лишь немногим, вошедшим в такт и вкус ритма разрушения, доступен «пир во время чумы», который и является самой настоящей Дорогой; здесь же, на Канарах, в оазисе покоя и безмятежности, этот ритм теряется и даже таким опытным кочевникам, как я и Рита, его тут не поймать, вот и врывается в мои сны, как предупреждение, изменившийся, ставший вдруг незрелым лик Анимы, ведь если ты вырвался из цепких объятий Великой и Ужасной Матери, это не гарантирует, что ты уже никогда не можешь угодить в них вновь, ибо Дорога никогда не приводит тебя к финалу, это всегда неустойчивое равновесие или устойчивое неравновесие, я вспоминаю слова Толковательницы: - Порой даже на низких уровнях, могут проявляться символы более высоких ступеней, как и наоборот – в какой то момент достигший постижения Анимы на четвёртом уровне иногда опускаться на второй, а то и самый первый – невротический... Что это за уровни, спросите вы? – и я расскажу, я просто обязан это рассказать… я расскажу даже более простым языком, чем Толковательница, ведь в лабиринтах моей памяти многие теоретические выкладки хранятся в виде очень простых образов и ассоциаций; мы много говорили о внутренней женщине, живущей в психике каждого мужчины – Аниме, хотя, конечно, внутренняя женщина и Анима это не совсем одно и то же, но пусть это будет так, я ведь волен свободно распоряжаться понятиями и их интерпретациями; так вот Юнг выделял четыре уровня развития Анимы: Ева, Елена, Мария и София, где первая, самая нижняя стадия развития Анимы – Ева, изначальная праматерь, там женское начало еще не отделено от материнского, это здесь действенны все те древнейшие мифы о кастрированных сыновьях-любовниках, не отделимых от Великой и Ужасной Матери, которые мы долгое время обсуждали с Толковательницей, и, оглядываясь вокруг, мы обнаруживаем огромное количество мужчин, не сумевших вылезти из объятий Богини, плененных ее сексуальностью, даже крутые мачо сидят у нее в заложниках и, соответственно, под каблуком у своих жен и любовниц, и помните - я писал про альфа и омега самцах, так вот со введением уровней развития Анимы мужчины, картинка становится уже двумерной и не все оказывается столь просто и однозначно, альфа самец с Анимой на уровне Евы будет трахать всех сексуальных, но инфантильных самок, женщины же более тонкой душевной организации просто не будут попадать в орбиту его внимания, а несчастный рифмоплет Пьеро, если, конечно, его рифмы достаточно изящны и тонки, может-таки завоевывать сердца и души возвышенных дам, вот только будет ли у него стоять на них – вопрос особый, ведь красота, сексуальность и глубина души – три разные вещи и счастье тому, у кого все они совпадают; красота же (но отнюдь не обязательно сексуальная красота, скорее красота академическая - аполоническая) стала отличительным признаком следующего уровня развития Анимы – Елены Троянской: вот такая красота может развязать войны, как это и случилось между Элладой и Троей, здесь эротизм уже отделен от материнского начала, но крепко спаян еще с агрессией и желанием обладать, обладать так, как обладают красивой вещью; так купцы Кнуров и Вожеватов торговались за обладание красотой бесприданницы Ларисы, а ее обманутый жених Карандышев – вот уж точно омега самец, которому самой судьбой не дано было овладеть своей невестой, так как альфа самец Паратов – уже не просто самец, но тот, у кого и деньги есть и толика ума, явился вовремя, дабы не дать свершиться невозможному – отдадим дань интуиции Островского, мужчину с Анимой этого уровня уже не проведешь на мякине, он не обязательно расчетливый купец, но вполне может быть и рыцарем… кстати о военных: в Афгане я знавал нескольких выраженных представителей такого типа мужчин, одним из них был особист с которым я и подрался, что повлекло за собой мой перевод из относительно спокойного Кабула, где я возил полковника Медведева на газике от расположения части ко дворцу Амина – один и тот же маршрут день за днем в течении полугода, я то ведь до отчисления из института окончил автошколу – в феврале восемьдесят второго мне стукнуло восемнадцать и отец обещал подарить мне, при условии успешного окончания первого курса жигуленок-копейку, да только суждены мне были не прогулки с ветерком по проспектам и пригородам Питера, а полгода езды на газике с бронированными стеклами; эти полгода Катя скрашивала мое пребывание в Афгане, нет, она не была простой чекушкой – так называли мы женщин, отдающихся за чеки внешторга, многие из которых сделали себе на этом состояние, Катя отдавалась бескорыстно и офицерам и, бывало, солдатам, а тот особист из политотдела решил, видать, прибрать ее к себе – типичное свойство мужчин, чья Анима – Елена Троянская, сделать своей походно-полевой женой, да застал ее со мной; а вы знаете, что такое особист политотдела? – я мог подраться с обычным майором и даже подполковником – такие случаи бывали нередки по разным поводам, и отделаться гауптвахтой или даже нарядом вне очереди, а то, бывало дело заминалось просто так, особенно, если по пьяни или по обкурке – дурь-то курили за речкой все, кроме может быть, таких вот политруков, дьявол его побери; он – молодой старший лейтенант, старше меня лет на шесть – семь, мог построить любого боевого подполковника, вот и тогда – черт дернул завернуть его в каптерку, где мы с Катей наслаждались друг другом… драку начал он, я лишь два раза ответил и то неловко как-то – особист был могучим детиной, его кулак четырежды посылал меня на пол, покуда я не отключился, а вечером уже был подписан рапорт о моем переводе в одно из самых гиблых в ту пору мест – мотострелковую часть в Герате, даже полковник Медведев ничего не мог поделать и виновато смотрел мне вслед, он, видимо уже видел меня в цинковом одеянии, но не случилось – уже через месяц Катя, использовав все свои сексуальные таланты, была снова рядом со мной… здесь поток воспоминаний буксует: сейчас в дивной субтропической ночи в бунгало на берегу величественного и спокойного океана мне не хочется забираться глубоко в серию афганских образов, и я возвращаюсь к уровням развития Анимы, где следующий – третий - Юнг называет Марией, только не в материнской ее функции, а как архетип проводника и духовной сестры, таковой для меня подчас была Катя, та Катя, которая вытаскивала меня из переделок и бед, та Катя, которая вела по пути постижения себя самого; позже я знал нескольких женщин, с которыми меня связывала исключительно дружба, несколько лет после Кати мне казалось, что между мужчиной и женщиной не может быть дружеских отношений, но я ошибался, как ошибаются все те, чья Анима не выросла выше Елены Троянской; высший же уровень Анимы – София, мистическое постижение женской природы, как собственной, так и конкретной женщины, здесь я знаю только двух: Катю и Риту, лишь о них я могу сказать, что глядя в их глаза я постигаю Сущее, растворяюсь в мироздании, погружаюсь в тайная тайных… Катя вырастила мою Аниму, подняла с первого уровня на четвертый, точнее все это лишь схема и условность: все четыре уровня живут в каждом мужчине, в ком-то высшие из них лишь изредка поблесткивают, подобно затерявшейся в ночи искорке догорающего костра, в иных переливаются сложными узорами, тяготея, все же к некому доминирующему лику, для того же, чья Анима прошла путь до конца, до устойчивого мистического мировосприятия, а Анима – мировосприятие в основном чувственное, - для того доступны все ее лики, но, если зазеваться, то все равно легко можно оказаться в цепких лапах кастрирующей Матери; здесь читатель может упрекнуть меня в предвзятом отношении к архетипу Матери, в материненавистничестве, но это не так, я люблю мать, и свою и Великую Богиню, люблю, но не позволяю ей управлять собой, я автономен и самостоятелен, моя первая прекрасная учительница привела меня на путь самостоятельности, на путь постижения себя и мира, и когда я замечаю тревожный симптом, подобный появлению девушки из моей юности Гали, выражающей лик Анимы – Евы, я благодарю Великую Мать и меняю контекст: сейчас утро, мы с Ритой упаковываем чемоданы, чтобы успеть на двенадцатичасовой рейс и встретить Новый Год у моих друзей в Челябинске – может быть, мы даже успеем доехать до Аркаима; моя милая девочка ничего не спросила, она знает, что если я что-то решил, значит для этого есть веские причины, она только говорит мне: - Я успею еще искупаться? – Успеешь, …и не только искупаться! – я обхватываю ее хрупкую талию, кладу ладонь на упругую, ждущую моих ласк грудь и сладчайший поцелуй заставляет нас обоих затрепетать в предвкушении огненного вихря, зарождающегося в нашем существе, ставшем единым, излучающим волны благодарности и благодати в лоно и сердце Великой Матери…
9.
Я не люблю вспоминать о войне и о годах, проведенных вне России. Не эти годы изломали мою жизнь, создав волшебную возможность для долгого, болезненного, но единственно верного для меня пути к своей сути, к тому, где теряется граница между мной и миром, там я забываю о смертности своего «я» и вспоминаю о бессмертии бытия в целом; все эти годы – в Афгане, в Исфахане и Париже были заполнены для меня исключительно Катей и моими столь противоречивыми к ней чувствами, затапливающими меня целиком, так что я порой забывал где я нахожусь; расстались же мы с Катюшей уже в России в восемьдесят девятом году, через несколько дней после приезда на Родину, она, кстати, могла преспокойно остаться в том же Париже, следуя за мной, она отклонила множество таких предложений, ради сотой доли которых наши соотечественницы десятками тысяч уезжают из страны в тот же Париж или куда там еще; ощутив пьянящий воздух родного дома, возможность не унижаться больше, зарабатывая на кусок хлеба мытьем посуды в кафешках, и не страдать от положения альфонса (пусть она никогда и не позволяла мне многого, подталкивая к самостоятельности) при красотке-куртизантке, я устроил Кате сцену: меня прорвало как плотину, и я с жаром высказывал ей все обиды и унижения, - первая неловкая попытка освободиться от материнского комплекса, - как скажет потом Толковательница, да, я продолжал оставаться трусом, ведь не смел же я высказать все это в том же Герате, Исфахане и даже Париже, лишь почувствовав относительно твердую почву под ногами, я дал волю переполнившим меня страстям, годами удерживаемым внутри, раздирающим душу; Катя слушала мою истерику удивительно спокойно, и лишь когда весь в слезах и соплях я несколько раз надрывно прокричал ей: - Иди на х.., сука, я ненавижу тебя!!!, - она посмотрела на меня с прощальной нежностью, и этот взгляд вдруг остановил поток моих надрывных воплей, она сказала тогда: - Будь по-твоему, прощай, - развернулась и ушла, ушла навсегда, хоть я и искал ее еще много лет, надежда случайно повстречать ее оставалась у меня даже после нескольких лет сеансов у Толковательницы и во время колесения по всей стране вслед за Дедом, только встретив Риту я успокоился, я обрел искомое, тогда же, остановив крики и рыдания я только что и сумел прошептать беззвучными губами: - Постой! – но не сделал ни шага за ней, почему-то я был уверен, что она как всегда вернется, но увидеть ее в следующий раз мне довелось лишь в две тысячи пятом году в совершенно неожиданном облике, что послужило еще одним волшебным пендалем для меня; тогда же в восемьдесят девятом, не дождавшись Кати ни через день, ни через неделю, ни через месяц, я впал в запой, почти беспросветно пил и блудил полтора года; будучи трезв и пьян, я кружил головы женщинам, я в совершенстве уже умел это делать, трахал их и бросал, влюбившихся и отчаявшихся, особенно радуясь, когда попадались замужние и разваливались семьи, я мстил за то душевное состояние, которое расковыряла во мне Катя, обнажив мой прикрытый маской хорошего мальчика невроз, я не знал еще, что благодаря неврозу, особенно обостренному, человек только и может откровенно увидеть свои ограничения, - но вместе с тем узнать и свою силу, и свою истинную сущность: с этой точки зрения невроз похож на будильник, и его роль гораздо более позитивна по сравнению с той, которую ему приписывает медицинское сообщество и подавляющее большинство непрофессионалов, - это все откроется мне благодаря Толковательнице, которая и нашла меня в крайней точке падения на одной из вечеринок, пьяного, жалкого, потерявшего всякий интерес к жизни…
10.
Мои сны…
Мои сны конца восьмидесятых начала девяностых… я вижу свое имя, записанное на могильной плите, разлагающиеся части своего тела, судью, зачитывающего приговор, священника, завершающего соборование, рушатся здания, черви копошатся в гниющих телах,… поле битвы, древнее, усеянное трупами лошадей, людей… топоры, копья, мечи, прах и тлен… потом еще здания, охваченные пламенем, обрубки тел, конечности, валяющиеся на земле, обугленный, искаженный до неузнаваемости обрубок, бывший лишь минуту назад старшим лейтенантом Абдуллаевым, колонна машин, застрявшая в ущелье, и даже не страх, а ярость с которой я, подобно другим бойцам, матерясь и бессвязно крича, поливаю во все стороны свинцом, потому что никто не знает, где притаились снайперы моджахеды… пьянящая ярость, одержимость Аресом - страх подступит уже гораздо позже, страх и отвращение… вот лежит младший сержант Онищенко, Димка Онищенко, со снесенным черепом и вытекающей оттуда кровавой слизью и мозгами смешавшимися с грязью… еще вчера мы вместе курили травку и мечтали о счастье которое ждало нас, и мы это непременно знали - меня в далеком Питере, его в деревне под Полтавой, обкуренный я обнимал его тогда, шептал что-то невнятное про Катьку, а он улыбался, кивал… и вот его расплющенное тело грузят в БМП, моя одержимость Аресом проходит, тело начинает трястись, меня колотит, летеха Фомичев подносит к моим губам флягу со спиртом, я жадно глотаю, но не чувствую обжигающей горечи, для меня сейчас спирт как вода, лишь минут через десять я начну что-то чувствовать… о чем я? – о снах?.. да, сны той поры перемешались с видениями нескольких – да всего-то трех боевых операций, с тех пор Смерть прочно поселилась в моих снах: упавшая птица лежит на спине, со всех сторон ко мне тянутся когтистые лапы, гробы, еще гробы, закутанные в саваны фигуры, зачем-то я приоткрываю один из саванов и чье-то лицо, состоящее из сухих струпьев, осыпается прямо под моими руками… мне отчего-то кажется, что это лицо женщины, которая была молода и красива, она неистово кричала, переживая оргазмы, ее глаза светились нежностью и полнотой любви и желания, ее глаза сейчас - тлен в провалившихся глазницах, а вокруг снова пляшут гримасничающие маски с оскаленными зубами, косы, змеи, собаки, кости, черные лошади, воронье и вот еще один образ, который испугал меня в детстве, когда бабушка читала мне сон Татьяны из «Евгения Онегина»: «вот череп на гусиной шее вертится в красном колпаке», упавшие деревья, бурелом, предметы, исчезающие в клубах дыма, подозрительная женщина ведет меня куда-то вниз по винтовой лестнице, и во мраке возникают глаза, вырванные из глазниц, пальцы, крылья, летучие мыши, бессвязные голоса, какой-то причудливый танец… я чувствую сырость, как в склепе, внезапные порывы ледяного ветра… смерть витает в воздухе, в огне, воде и на погосте; в то время, погружаясь в сон, я не содрогался уже, я привык к этим образам… лишь когда рядом была Катя, она вытаскивала меня из их цепких объятий в какие-то причудливые дымчатые переливчатые абстракции, соединенные с острым желанием, от которого я и просыпался, жадно устремляясь во всегда гостеприимное Катино лоно; однако мы редко спали вместе, и моими ночными спутниками были образы разложения, тления и гниения – Нигредо, мой мальчик, первая неизбежная стадия алхимической трансформации души, - говорила Толковательница, она признавалась мне, что мои сны были для нее своего рода пиршеством: - Вам чертовски повезло, - повторяла она часто, - многим так и не удается вступить в стадию нигредо до конца жизни, удивительно, что ваше «я» сумело созреть и накопить силы, чтобы выдержать эту схватку с силами гниения, разложения и тления, я считаю, что вашей опорой была Катя, вы спроецировали на нее как разрушительную, так и созидательную стороны своей Анимы: разрушительная толкала вас в объятья смерти в прямом и переносном смыслах, созидательная вытаскивала и продолжает вытаскивать из ее цепких лап; - Толковательница не раз говорила мне что я – редчайший экземпляр в ее практике, а образ Кати и подавно, ибо не встречается ни одного клинического описания, в котором одна женщина являлась бы объектом, на который проецировались бы все, какие только возможно, аспекты Анимы; еще тогда на Песочной набережной, разрушив все опоры, на которых держалась моя личность маменькиного сынка, вслед за чем могла бы последовать неминуемая гибель, она не отпустила меня и несколько дней создавала новые хоть и шаткие опоры в моем помутненном разуме; мы оказывались на каких-то квартирах, где пили, танцевали, где она отдавалась мне снова и снова, а потом приглашала для меня других женщин, конечно ни одна из них не могла сравниться с ней, и эти опыты любви втроем обрушивали очередные жесткие структуры во мне, но я уже не сопротивлялся, я чувствовал себя подобно начинающему байдарочнику, которого вынесло в бурный поток: его первая реакция - закрыть глаза и съежиться от страха, потом пытаться управлять движением байдарки при помощи весел, неумело налетая на камни, чтобы затем постичь искусство отдаться потоку; мне повезло или же это моя учительница была настолько искусна, что я умудрился обойти стороной все водовороты и смертельные пороги: взорвавшийся лавинообразно инстинкт не убил меня сразу, хотя и подставил меня в борьбу за выживание во всех сферах моего бытия – борьбу, длившуюся почти десять лет, направляемую богом похоти и жизненной силы, богом, разрушающим все моральные ценности и запреты: Василиском, о нем мы тоже много говорили с Толковательницей, позже я нашел его описание в литературе: в большинстве книг по мифологии он предстает как вымышленный зверь с головой петуха, туловищем жабы, хвостом змеи и короной на голове; он считался злым духом, убивавшим одним своим взглядом – Толковательница поясняла, что его взгляд убивает жесткие структуры души, навязанную мораль, социальные ценности… он опасен, загадочен и непонятен, как, впрочем, и сама сексуальность.
Эмма Роберторовна говорила, что, несмотря на то, что со времен Фрейда создано огромное количество теорий сексуальности, еще не пришло время для понимания этого явления, а быть может Василиск не будет понят и взят под контроль никогда, ну а если так, то к сексуальности неприложимы никакие нормы: сексуальность не может быть нормальной или ненормальной, она прекрасна и ужасна, демонична и возвышенна - предъявлять ей моральные требования бессмысленно… впрочем в восемьдесят втором году, отдавшись этому потоку, думал я иначе – в ту пору мне казалось, что я пал на самое дно, а отчисление из института и Афган лишь подтверждали эти мысли, хотя, признаюсь, после начала общения с Катей мыслительная функция перестала определять мою жизнь и влиять на поступки, хотя внутренних борений и терзаний предстояло еще очень и очень много, и я много раз задавал себе вопрос - какой же черт подтолкнул меня по наклонной, сделав меня одним из тех, кого называют моральным уродом, отребьем человеческим… лишь с середины девяностых я могу улыбаться, вспоминая свои незатейливые мучения и угрызения совести и присоединяю свой голос к голосу Фридриха Ницше, сказавшего однажды: «я ученик Диониса, я предпочел бы скорее быть сатиром чем святым»…
[1] Туман – денежная единица Ирана, употребляемая в простой речи. Один туман равен 10 иранским риалам.
Три тумана – очень маленькая сумма.
«Способные висеть на волоске,
способные к обману и тоске,
способные к сношению везде,
способные к опале и звезде,
способные к смешению в крови,
способные к заразе и любви,
напрасно вы не выключили свет,
напрасно вы оставили свой след,
знакомцы ваших тайн не берегут,
за вами ваши чувства побегут».
Иосиф Бродский
1.
Это страшное слово – свобода…
В определенные периоды истории, когда происходит общее ослабление социальных связей: революции, гражданские войны, обвал столпов нравственности, мы видим повышенную концентрацию неприкаянных людей, из них лишь немногие обретают устойчивость в движении, свой дом бытия на колесах, большинство же готово променять ужас неприкаянности на любую степень послушания, ведь свобода гораздо ужаснее, чем мы привыкли думать – взывая к ней, возводя ее в ранг сверхценности, мы, порой не в состоянии даже представить с каким монстром заигрываем, недаром в древнегреческих мифах Медуза Горгона убивала горемыку-искателя приключений своим взглядом, и взгляд этот нес ни что иное как свободу, да-да, шквал абсолютно ничем не обусловленных выборов, предстающих тотчас после выпадения из уютных уз обусловленности, заставляет человека застыть на месте, окаменеть в буквальном смысле слова… Так вот, пускаясь в непредсказуемое путешествие по лабиринту своей памяти, оживляя либидозной энергией все его закоулки и тупички, делая возможным пересечение каждой траектории с любой другой, я пробуждал еще один лик Великой и Ужасной – Горгону, некогда обезглавленную Персеем по наущению ревнительницы порядка и закона Афины (тоже, кстати, лик Великой Богини), этот сюжет происходил еще когда из хаоса первобытных ощущений и образов вырисовывались, благодаря моим родителям, некие абстракции: правильно-неправильно, хорошо-плохо – кроха сын подходил к отцу, и тот в лад Маяковскому объяснял как жить в этом мире; теперь же я вновь и вновь поливал живой водой, что была энергией моей памяти, голову Медузы, и она возвращала мне свои дары. И вот, в конце первой части я не то, чтобы совершенно оживил Горгону, но изрядно растормошил ее, так что передо мной вдруг открылось невероятное число равнозначных выборов, заставив меня окаменеть в страхе и трепете – я не мог решиться потянуть ни за один конец клубка моих воспоминаний, ибо их было неисчислимо много, и каждый вел в свою сторону, хотя я и знал, что где-то они все пересекаются между собой. Это еще не настоящая свобода, это пока только намек, намек далекий и неясный, но и его хватило на то, чтобы несколько недель я находился в ступоре, взирая на всю открывшуюся мне картину разом и не зная с чего начать. На помощь пришел Пегас, это крылатое дитя Медузы, однако взнузданное той же Афиной, а потому хоть и свободное, но лишь отчасти, из-под его легких копыт выскочили странички небольшой пьесы Горького, в одном из сюжетов которой знаменитый писатель, приехавший на дачу к приятелю, жалуется: «Потерял я своего читателя и теперь не знаю, брат, о чем писать», на что тот дает гениальный совет: «А ты так и пиши, мол, - ничего не знаю!» Вот я и пишу… а написав, испытываю небольшое облегчение, некую долю подвижности в окаменевших суставах и связках смысловых конструкций, захваченных вереницей образов, хватаюсь за первый попавшийся образ и, забывая на миг, что дальше будет еще сложнее, если мне не удастся стать профессионалом неприкаянности, готовым начинать каждый новый день и час заново, а таковой была моя учительница Катя, унаследовавшая все ипостаси Великой Богини, а значит, и Горгону; так вот – я хватаюсь за первый попавшийся образ и попадаю в осень две тысячи третьего года, в ту благословенную осень, когда в мою жизнь вошла Маргарита.
Она была помешана на Достоевском. Я тогда нигде не работал, точнее, был хозяином маленькой фирмы, где появлялся два раза в месяц, чтобы забрать прибыль, которой нам хватало на съемную квартиру и ежедневные ужины в ресторанах; часов до двух я валялся в кровати, лениво почитывая книгу или просматривая видеокассеты со старыми добрыми советскими комедиями, затем принимал ванну, и так как-то время приближалось к четырем часам: приходила из Университета Рита, мы пили кофе, заказывали такси и ехали, часто простаивая в длинных пробках, нас это не беспокоило, мы целовались на заднем сиденье, не замечая времени; мы ехали из нашей маленькой уютной квартирки на Московском проспекте в центр: на Вознесенский, на канал Грибоедова, на Владимирский, на Васильевский остров… ей непременно нужно было разыскать, например, дом, где мадам Рейслих сдавала комнаты Свидригайлову, или дом старухи процентщицы, все дома Шиля – тот, где жил Раскольников – на углу Вознесенского и Малой Морской, и другой – где жил сам Федор Михайлович, мы гуляли, фотографировали виды сумрачного города, опоясанного гирляндой фонарей, мы были беззаботны и счастливы, заходили в ресторанчики и кафе: такие, чтобы название непременно было кудрявым, - настаивала моя девочка, она сыпала без умолку фразами из романов великого писателя, фразами также кудрявыми и затейливыми: что же это вы, милостивый государь, вояжируте? – обращаясь ко мне, когда я, бывал застигнут врасплох каким-нибудь ее вопросом, погрузившись в свои думы… очень даже бойкая барышня (про официантку в кафе), однако же в этом сумнительном заведении, поди, и штуки случались!.. Выжига, как есть выжига! – кивая в сторону подвыпившего прохожего… вряд ли она сама понимала смысл многих кучерявых словечек, но мы смеялись, мы нагуливали аппетит, чтобы приехав заполночь домой, наброситься друг на друга прямо в прихожей, лихорадочно скидывая одежду, она была сказочно хороша, я перестал сравнивать ее с Катей, как сравнивал до нее огромное количество женщин, она внесла в мое отношение к женщине ту безусловную уверенность, которой мне так не доставало раньше, я обрел все повадки альфа самца, который ни минуты не сомневается, что женщина не просто уступает твоим желаниям, но чувствует, что просто обязана тебе отдаться и эта обязанность для нее – наисладчайшая, я обладал ею подолгу, наслаждаясь чувством хозяина и положения и своей страсти, поспешность, неловкость, опасения, что я не смогу ее удовлетворить: всей этой дури для меня уже не существовало, впрочем многому меня научила еще Катя, которой понадобилось немало времени, чтобы вышибить из меня тревожность, страх оказаться не на высоте, она учила меня не заботиться об ее удовлетворении, понять, что все эти человеческие заморочки, которые Толковательница потом объясняла все тем же страхом кастрации, страхом сына-любовника перед Великой и Ужасной, не имеют природных, инстинктивных корней; Катя научила меня наслаждаться процессом и заботиться прежде всего о собственном наслаждении, ибо в сексе каждый должен как и в жизни вообще отвечать только за себя, это простое природное правило заново открыл для нашей эпохи великий ученик Фрейда Вильгельм Райх, отец сексуальной революции, закончивший свои дни в американской тюрьме пятидесятых годов за слишком, по тем летам, вольнодумные взгляды, преданный анафеме властями демократичнейшей из стран, еще и сжегшими его книги, через пять лет последует раскаяние и пьедестал, но Райха уже не будет в живых. Катя не читала ни Райха, ни его ученика Александра Лоуэна, доказавших, что мужчина, озабоченный удовлетворением женщины, обслуживающий женщину, желающий выставить себя суперлюбовником – всего лишь жалкий трус, в глубине души оставшийся заложником Великой Матери, либо латентный гомосексуалист, вытесняющий в бессознательное свою тягу к мужчинам, она просто жила в согласии с самой природой, из которой и черпала мудрость, опыт и саму свою женскую суть, перед которой не мог устоять ни один мужчина, многие отдавали жизни за один только раз с ней, в этом она была настоящей Клеопатрой: «скажите, кто меж вами купит ценою жизни ночь мою?» - покупали, взять хоть того летчика, который нарушил все законы военного времени, взял ее в вертолет и прочесывал под прицелом душманов окрестности места, где меня взяли в плен, его сбили на обратном пути, странно еще, что не во время поисков, он изведал ее любовь всего дважды, после чего, потеряв голову пошел не только на должностное преступление, но на верную гибель, может быть, он надеялся на то, что погибнет в ее объятиях? – еще одно странное обстоятельство: ни я ни дух не слышали шум вертолета, Катя попросила вдруг ее высадить, доверяя какому-то неясному чувству, что я могу быть где-то рядом, но подлетать близко нельзя, несколько километров она шла наугад, и откуда у нее была эта уверенность не только что я там, но и что вообще жив, и на что она надеялась? ведь не знала же она заранее, что со мной будет один только пожилой и похотливый дух… нет, не знала, но чуяла, как волчица чует своих детенышей еще за километр; сама природа научила ее любить мужчин, мужчин вообще и каждого конкретно, научила ее гармонии отношений – мужчина вырастал и преображался рядом с нею, даже такой безнадежный мальчик и маменькин сынок как я возмужал благодаря тому, что Катя увидела в моей судьбе вызов любви; не существует секса без любви! – помните, она произнесла эту странную для меня тогда фразу на набережной Карповки в марте восемьдесят второго? – она не могла мне объяснить, что лишь та женщина, которая любит всех мужчин, мужчин вообще, способна любить конкретного мужчину и лишь тот мужчина, который любит женщин и освободился от всяческих обид на мать, мифологических страхов перед Великой и Ужасной, способен по настоящему полюбить конкретную женщину, полюбить, как могут лишь немногие, без липких двойных стандартов, которыми пропитаны девяносто девять процентов всех взаимоотношений в наш век, оторванный от живых инстинктов; Катя не могла мне объяснить это, она не читала многоумных психоаналитических книг, она просто знала это, знала всей душой и именно это позволило мне тогда, в марте восемьдесят второго поверить ей и не сломаться, хотя мой ум и протестовал и сомневался, и еще множество раз этот порочный, хитрожопый ум ввергал меня в сомнения, ревность, зависть, ненависть, - после ее слов это была лишь поверхностная пена, ибо в глубине души, в самых донных ее уголках жила истина, переданная мне из живого источника – любящего существа, целостного в своих чувствах, а целостной она была со всеми, даже если ее желания длились лишь несколько минут… Блаженны вы, коль уж так веруете, или уж очень несчастны: - это уже голос Риты, цитирующей старца Зосиму, прерывал вдруг поток моих воспоминаний, мы сидели в маленьком ресторанчике «У Степаныча» на канале Грибоедова, и был ноябрь две тысячи третьего; я натужно улыбался и вослед за Иваном Федоровичем Карамазовым удивлялся: Почему несчастен? – Потому что, по всей вероятности, не веруете в бессмертие вашей души, - отвечал нам с Иваном почтенный старец… Не веровал и не верую, из-за чего через два года у нас с Ритой вышел столь глубокий конфликт, что мы чуть было не разошлись, впрочем эта история связана с событиями о которых не готов я еще рассказать, тогда же «У Степаныча» я отшучивался, не желая влезать во всю глубину столь деликатного вопроса и причинять боль Рите, ведь она-то веровала, так веровала, как я верил в любовь женщины, в любовь Великой Богини к тому, кто способен вырваться из ее силков…
2.
Странным находил я страсть Риты к Достоевскому, хотя с каким-то тревожным, но и губительно-сладким чувством потакал этой страсти.
Петербург Федора Михайловича — это город, в котором невозможно жить человеку, в нем невозможно найти ни семейного очага, ни просто человеческого жилья, и жутко становится оттого, что герои живут то в "гробу", как Раскольников, то в уродливом "сарае", как Соня, то в "прохладном углу", где обитает Мармеладов, даже совсем не бедный Свидригайлов свою последнюю ночь перед самоубийством проводит хоть и в отдельном номере, но "душном и тесном"; Петербург Достоевского — этот город уличных девиц, нищих бездомных детей, трактирных завсегдатаев, ищущих в вине минутного забвения от тоски, атмосфера этого города — атмосфера тупика и безысходности, зачем искать ее вовне, когда она то и дело подступает изнутри? - "некуда идти человеку, а ведь это надобно" – исповедовался Родиону Раскольникову Мармеладов, и ведь верно говорил отставной чиновник, тесно, ужасно тесно!, если вчувствоваться в недра души своей, - мы с Ритой понимали это и, как будто расковыривая зудящую рану со сладострастием мазохиста, искали мы места с убогими серыми или темно-желтыми домишками, стенами без окон, тупичками, тут же заглушали подступающую тоску – тоску бытия, или тоску по бытию? – поцелуями, ласками и, доведя друг друга почти до исступления, выскакивали, разгоряченные, на шумную улицу или проспект, ловили такси и, примчавшись домой, наслаждались друг другом уже в прихожей, не закрыв двери на ключ… не в этом ли уловка Василиска – отвлекать человека от отчаяния, от тесноты и удушливости повседневности, как там Мармеладов говаривал: "а разве сердце у меня не болит, что я пресмыкаюсь втуне?" – вот мы и утешали себя, лечили сексом от боли сердечной, отвлекаясь от ужаса перед Ничто, ожидавшего нас, как и любого смертного впереди; всяк ведь утешается по-своему, кто уходя в иллюзии загробной жизни и внетелесного опыта, кто заливая отчаяние водкой; нашей верой была телесность, именно тело помогало пережить предельную сопричастность чему-то великому и хрупкому, что не хотелось никак называть, никакими высокими и, вместе с тем, затертыми словами, будь то бог, благодать, самадхи, мы просто таяли друг в друге, постигая одноклеточное, предельно простое единство друг с другом и миром, о, это был далеко не банальный секс в сто двадцать шесть секунд, после которого выкуривают сигарету или, отвернувшись к стене, засыпают, нет, мы нашли друг друга, открыли друг в друге сумасшедшую силу любви, да я смею называть это именно любовью, той любовью, которой жила и дышала Катя, первая моя учительница, вечно доступная и вечно ускользающая мечта, воплотившаяся, вдруг, в Рите через двадцать лет, а Рите и было как раз двадцать, и я порой думал – уж не является ли она нашим с Катей творением - вдруг флюиды любви, которая застигала нас с Катей в восемьдесят втором на крышах, чердаках и в подвалах, проникли в лоно матери Риты, которое возделывал ее отец как раз в те самые минуты? – все это, конечно, бред, но мы были счастливы, мы раскачивали качели бытия, переходя от атмосферы тесной, всепоглощающей тоски до великих взлетов счастья и растворения в одноклеточной безличности: человеческий удел – скитаться где-то между, и я так бы и скитался, не пойди я тогда на дискотеку во Дворец Молодежи, не вылети из института, не попади в Афган и не поскитайся по чужим странам в нищете и ощущении полного падения и опустошения: мы как-то прогуливались с Ритой по набережной Лейтенанта Шмидта и моя девочка процитировала одно место из «Идиота»: «а ведь верно про тебя, Ганька-подлец, говорят, что ты на Васильевский за три рубля поползешь?» - а я ведь полз, и не за три рубля, а за три тумана[1] – что можно было на них купить, кроме сухой лепешки – нес какие-то бумажки из конца в конец Исфахана, в то время, когда моя возлюбленная услаждала персов в борделях и кабаках; там хоть не было войны, но и там продолжались мои мучения… и мое счастье - когда Катя вырывалась на час-другой ко мне… с какой же силой страсти она отдавалась мне, уже уставшая от бесчисленных ласк и чужих поцелуев; так я раскачивался между полюсами тогда, продолжал раскачиваться, хотя несколько по иному, и в две тысячи третьем году, но разве по сути это было чем-то иным? – было, только тогда я не мог еще осознать эту тончайшую разницу, эту грань между хлопком одной ладонью – правой или левой… этот нектар жизни, которым никогда невозможно напиться, который хочется собрать про запас, но вот он все выскальзывает и выскальзывает прямо из рук, хотя ты и чувствуешь остро как никогда, что вот он – в самих руках и есть…
3.
Со времен Платона, а возможно и задолго до того, любой думающий человек рано или поздно сталкивался с понятием «блага», с тем, что составляет высшую ценность жизни. Еще тот же Платон отмечал, что благо для всякого человека субъективно, хотя и существует некое общечеловеческое благо – Единое. Затем на двадцать столетий в Европе и ее колониях вопрос решился просто и однозначно церковными заповедями, хотя я и писал уже, что рассматриваю то, что открылось, или было расчетливо подсунуто параноику Моисею как «десять заповедей» - как простую экономическую схему, которая привязывается как к субъективному, так и к общечеловеческому благу с помощью весьма хитрых выкрутасов – введения понятий греха и покаяния, что на руку определенным силам и структурам типа церкви и тем, кто за ней стоит, но конкретного человека лишь вводит в заблуждение, превращая из индивида в стадное существо, ограниченное десятикратными «не», которые тот продолжает ежедневно нарушать, чтобы потом испуганно или лениво каяться, по камушку строя пирамиду церковной и светской власти, замкнутый круг… в конце двадцатого века усилия экзистенциалистов привели к взрыву идеологии нью-эйдж, согласно которой все, что с тобой происходит, является благом априори, ибо ты сам выбрал свою судьбу, сознательно или бессознательно, и теперь проходишь некие уроки, которые зачем-то понадобились твоей душе... Честно говоря, меня мало интересует как церковь, так и нью-эйдж, да и Платон тоже, но вопрос «блага» все же периодически занимает меня: было ли для меня благом отчисление из института, попадание на войну, в плен, мыкание по чужбине – все то, что стало следствием сумасшедшей и подозрительной любви к необыкновенной шлюхе и искреннейшей и праведнейшей из блядей, каких я только знал? …возможно, не случись этого, я был бы сейчас стареющим мальчиком, невротиком и, может быть, даже кандидатом наук или бизнесменом средней руки, сидел бы под каблуком жены – стервы, а то и вовсе остался бы старым холостяком, прозябающим под крылышком престарелой матушки… было бы благом это? - нет, сейчас я мужик в полном смысле слова, я вырвался из силков Великой Матери, получил ее дары, я относительно свободен и внешне, и, тем более, в помышлениях моих, но ко всему этому я – прожженный циник, для которого относительны все категории, типа добра или зла, анархист, антисоциальный элемент, бродяга, медведь-шатун, я всегда могу достать денег на жизнь – не важно как – честно или нет с точки зрения общества; я уверен, что случись сейчас Страшный Суд, я не стал бы вымаливать себе прощения и каяться, как это случится с большинством, я не опущу глаза перед взором всевидящего и всезнающего Судии, да и не верю я ни в Страшный Суд, ни в Судию, который всех нас, согласно Писанию, спас, дабы потом судить, отыгравшись тем самым за все свои муки – но благо ли это для меня? Зачем я позволил, пусть бессознательно, пусть в полусонной сладострастной мольбе измастурбировавшегося мальчишки, взывающего о большем, запретном удовлетворении сам не ведая к кому, - зачем позволил я ворваться в мою жизнь сметающую всякую двойственность силу, зачем позвал именно Василиска, хитро расставившего свои сети, запутав мою судьбу настолько, что мне ничего не оставалось, кроме взросления? - нужно ли оно мне было такой именно ценой? – я много размышлял об этом, - не в этих еще категориях: в момент отчисления из Техноложки, в учебке под Ашхабадом, в Кабуле и под Гератом, в Иране, Париже, позже, уже вооруженный философскими и психологическими метафорами – после бесед с Толковательницей, Дедом, во время прогулок с Ритой… сейчас когда Катя навсегда исчезла из моей жизни, сделав для меня практически невозможное – ни один психотерапевт не смог бы помочь превратиться тому мальчику – невротику, каким я был в восемьдесят первом и за двадцать пять лет интенсивной терапии в того, кем я являюсь сейчас… сейчас я не взялся бы прописывать подобную сладчайшую и, в то же время, отвратительно горькую микстуру никому более, но за себя скажу, что для меня Василиск оказался однозначным благом, и я надеюсь, что он даст мне сил не переменить свое мнение…
4.
Как трудно, почти невозможно выразить тот пестрый клубок ощущений, образов, чувств, ликов, который разматывается в моей душе… то, что когда-то было близко, любимо, страшно, ненавистно… те, кого любил и ненавидел, кем играл и от кого зависел… те, кому причинял страдания, и те, от которых страдал…. любовь, которая всякий раз оказывалась компенсацией невротической ненависти, страха, зависимости, чего-то, что было незавершено когда-то: в раннем детстве, в утробе матери, в вечном мифе о Великой Богине… борьба за внимание, признание, за место под солнцем… битва каждого против всех… глубочайшее одиночество перед собственным безучастным взглядом, перед собственным сочувствующим взглядом, перед собственным уничижающим взглядом, перед взглядами: насмешливым, испуганным, печальным, гневным, понимающим... Господи, зачем я играю сам с собой в эту безумную игру? - в разматывающемся клубке сознания мелькают глаза, улыбки, гримасы отчаяния и боли, чьи-то слезы… чьи-то безудержные слезы… настоящие ли они, или это тоже часть всеобщего лицедейства?.. беспощадная, обнаженная реальность, разворачиваясь передо мной, врезается в душу тысячами личин, прячущих за собой что-то настоящее; в этот момент я понимаю, что настоящим является все в этой чудовищной, дьявольской игре, то завораживающей, то отвратительной, пьянящей и отрезвляющей, пугающей и скучной… зачем? зачем? зачем?.. я мог бы написать сотню умных ответов, опираясь на тщательно выверенные и проверенные опытом теории, впрочем, противоречащие друг другу, но сейчас все эти ответы – ложь!.. можно смотреть изнутри этого клубка, изнутри экстаза, раздирающей боли, удушающего страха, всепоглощающего интереса и безысходной тоски, можно смотреть снаружи, отстраненно: все эти взгляды равновероятно правдивы и столь же лживы, игра случая, созданная гениальным планом, где все учтено и оплачено… нет, тут явно чего-то не хватает: опять пошли описания, метафоры, а суть, которая, казалось, была наконец схвачена, - в очередной раз ускользнула, обнаженный нерв жизни, пойманной в силки осознания, опять затягивается обезболивающей коркой, и сладчайшая рана перестает кровоточить, душа погружается в привычные сумерки, умиротворяющий полумрак забвения себя… зачем нам всем этот блаженный, чудовищный, отвратительный, пьянящий и завораживающий опыт, который исчезнет некогда в земле или пепле? – он пополнит копилку коллективного бессознательного, обогатит бытие богов, архетипов и духов? – может быть затем ты явился в мою жизнь – Василиск, взломав сотни замков, запретов и предначертанный родителями сюжет бесхребетной и безопасной жизни? – нет, ты явился на мой безотчетный зов, теперь я понимаю это как никогда ясно; так кто же из нас кем играет и игра ли это вообще?
Нет у меня ответов на все эти вопросы, обжигающие обнаженные нервы вопросы, которые я истошно выкрикиваю иногда в вакуум собственного сознания, в такие минуты привычный хаос умозаключений, разрозненных представлений о себе и бытии рассеивается, и возникает впечатление, что самое сознание подобно некой фигуре, стоящей на краю бездонной пропасти и беззвучно кричащей в холодную и прозрачную молчаливую космическую бездну, кричащей не потому, что желает слышать ответ, нет, даже известно заранее, что никаких ответов и быть не может, просто нет возможности молчать, и прокричаться, выпустить запертые где-то в потаенных своих уголках слова, чтобы сотрясти пустоту, являясь единственным актером и зрителем-слушателем этой драмы – необходимо: столкнувшись с этим в себе, уже не запихнуть его обратно, в неосознаваемое; как там писал на склоне лет Хайдеггер: «не человек говорит языком, а сам язык проговаривает себя через человека»… что ж, пусть даже так, это ничего не меняет, я вспоминаю замечательные слова, которые язык проговорил через Деда: лучшее, что человек может сделать со своей жизнью, это превратить ее в авантюру, приключение, или, хотя бы, придать ей пафос авантюры – слова эти бодрят меня, и иногда, безмолвно прокричавшись в пустоту молчащего космоса, я следую совету Деда, становлюсь кочевником, не имеющим ничего своего ни внутри ни снаружи, и наслаждаюсь течением жизни несколько дней, а то, бывает, и недель, пока приходящая невесть откуда, вкрадчивая, мягко наваливающая тоска по чему-то совершенно несбыточному, чему-то предельному, окончательному не обнажает нервы, не вскрывает поток вопросов, не имеющих ответа; тогда я подхожу к краю собственной пропасти и кричу, кричу и плачу, ощущая как причащаюсь с этим криком к безжалостной и восхитительной доле человеческой…
5.
Дед… Это имя или просто слово, ибо Дед не любил имен и предпочитал полную анонимность, подобно большой капле, сорвавшейся с листочка дерева, на котором она копилась после дождя, падая на неровную поверхность, тут же разбегается десятками маленьких ручейков, так и Дед – огромный лабиринт моей памяти, пересекающийся с сотнями тысяч других лабиринтов, вот он весь всколыхнулся: в памяти ожили и забегали образы и ощущения, сталкиваясь друг с другом, порождая еще тысячи новых дорожек, ведущих в самое детство, а то и в мир фантазий и грез, я живу этим, это мой мир, мир хитросплетения вечно перестраивающихся дорожек прошлого, наезжающих на настоящее и будущее, ведь будущее зависит от переосмысления в настоящем прошлого, впрочем, это уже философско-шизофреническая попытка построить описание жизни, что вовсе не входит сейчас в мои планы, во-первых, потому, что любое описание ограничено и имеет свой контекст применения, сейчас же такой контекст отсутствует или минимален, во-вторых, потому, что – Дед… я опрометью погружаюсь в эту одну из самых крупных в моей жизни «капель» и образы текут множеством ручейков, пристроившись к одному из них, я вспоминаю его лицо, фигуру, жесты и слова, а мы познакомились в девяносто шестом году – Толковательница была еще жива тогда, но встречался я с ней реже, по ее наущению я посещал несколько курсов на факультете психологии и философии, так для себя, надежды получить диплом у меня тогда не было, я жил по фальшивому паспорту, который обошелся моему папе, обрадованному возвращению пропавшего без вести сына в копеечку, когда в конце восемьдесят девятого я приехал-таки под чужим именем из Парижа, но это уже другая история, а Дед вовсе не был дедом, в девяносто шестом ему было немногим за пятьдесят и выглядел он весьма моложаво; как-то мне довелось увидеть его фотографию начала восьмидесятых, что само по себе удивительно, так как Дед не любил оставлять следы, фотографию эту показала мне одна, как оказалось, наша общая знакомая, - вот и не сумел Дед перехитрить Поднебесную и стать человеком без прошлого, правда, он так и не узнал, что у нас общие знакомые, фотография висела у этой женщины на стене и я мигом узнал, что это – он: густые каштановые волосы, чудесная кожа, большие синие глаза, прямой нос, словом красавец мужчина во цвете лет, только тонкие губы несколько портили его; да и для пятидесяти с небольшим он был еще ого-го, правда каштановые волосы успели местами поседеть, и он стриг их коротким ежиком, лицо стало шире, на нем появились морщины, кожа перестала напоминать персик, по щекам зазмеились красные жилки, но благодаря великолепным глазам и стройной фигуре он все еще был достаточно красив, высокий - под метр девяносто, - он отличался, к тому же, прекрасной осанкой, да и та женщина, у которой висела его фотография в молодости, уверяла, что он военный, хотя одет на фото он был вполне по-граждански – темная кожаная куртка, из тех, что были в моде в восьмидесятых и джинсы; какие события сделали из него эдаким неуловимым Джо, ведомым одним лишь Гермесом? – одному Гермесу ведомо, я же все-таки, уловил его, а может он – меня, короче, мы оказались соседями на самой дальней парте в университетской аудитории: на задние парты садятся либо бездельники, чтобы скоротать пару за чтением детектива и, в то же время отметится в журнале посещаемости, либо такие вот пришлые люди, как мы. Молодой преподаватель читал лекцию по основной, как ее называют, работе Хайдеггера «Бытие и время», которую он написал, будучи совсем еще молодым, задолго даже до своего штандартенфюрерства – проникнувшись в тысяча девятьсот тридцать третьем идеями национал-социализма, Мартин Хайдеггер, гордость философии третьего рейха, ректор Берлинского университета, носил погоны СС и чуть было не угодил под трибунал в сорок пятом, если бы не заступничество Сартра и еще десятка мировых ученых; я считаю, что ранний Хайдеггер еще не столь мудр, хотя умен чрезвычайно, вот поздний Хайдеггер, увидевший корень бытия в языке… да что я все о Хайдеггере, право!.. так вот во время лекции Дед, которого я еще не знал, несколько раз толкал меня локтем и шептал: - Вот тут он, милай, маху дал – и так несколько раз; затем в перерыве мы будто случайно оказались за одним столиком – знаете такие столики были, за которыми надо стоять? – в университетском кафетерии, и прихлебывали кофе, точнее, его подобие, тут Дед подмигнул мне и, обращаясь так, как будто мы были сокурсниками, вышедшими на перерыв, а не видели друг друга первый раз в жизни, сказал: - Ты понял-то, чего я тебя локтем толкал? – Нет, – я усиленно затряс головой, я и саму лекцию-то понял плохо, так только – пару мыслей. – Ну так слушай: Хайдеггер напрочь упустил из виду экзистенциал Дороги, - слово Дорога мой случайно-неслучайный собеседник выделил интонацией и многозначительным, я бы даже сказал, комичным поднятием указательного пальца, а что такое экзистенциал я так до сих пор и не понимаю, хотя слышал его на лекциях, да и от Деда много раз, - так только нечто расплывчатое и, в то же время, неподвижное и монументальное рисуется в моем мозгу, впрочем, это не столь важно, а незнакомый мне доселе человек вкрадывался мне в душу своими речами, с видом таинственным и заговорщицким, будто доверял мне, как самому близкому человеку, (забегая вперед, скажу, что я в тот момент действительно был для него самым близким, как через час мог оказаться кто угодно другой) священную тайну, я плохо понял тогда его слова, но доверием проникся действительно безграничным, он попал в десятку, попал в ту трещину души моей, которая осталась не залатанной Толковательницей, и вот что говорил он тогда: - Проект подлинного бытия, который он так тщательно разрабатывал, предназначен для оседлого человечества, пойманного в силки и одомашенного, и прогрессирующее забвение бытия коснулось не только заботы и вины, а, в первую очередь, Дороги: она самоупразднилась в век просвещения, гуманизма, - ну о гуманизме разговор особый, и прогресса, что знаменовало эпоху Графиков и Расписаний, - эти два слова также были произнесены с пафосом и отмечены вознесением указательного перста, - ведь современные трассы, это уже не Средневековые Дороги, они прокладываются так, чтобы обойти стороной испытания; идеальный пассажир современных трасс неподвижен, он даже не входит во внутреннее время пути, из пункта А в пункт Б перемещается только тело, а усилия транспортных компаний направлены на то, чтобы оградить перемещаемое тело от внезапной и труднопредсказуемой полноты присутствия: иначе возможно, что в пункте Б придется иметь дело с совсем уже другим человеком, чем тот, кто выехал из пункта А, но эпоха Графиков и Расписаний просто обязана обеспечить минимальную самотождественность перемещаемого лица во всех пунктах назначения… - Простите, - перебил я его, - а что вы имеете в виду под труднопредсказуемой полнотой присутствия и самотождественностью? – А ты разве никогда не испытывал это? – он хитро прищурился и добавил – ты под дурачка-то не коси, если бы ты это никогда не переживал, я бы к тебе и на десять шагов бы не подошел… - А почему вы знаете, что я испытывал? – Глаза, брат, и атмосфера: меня не обманешь, на мякине не проведешь… и что было отвечать, все было прозрачно: Катя, война, Толковательница… да чего стоит только мое первое превращение в подъезде на Песочной набережной, вот уж воистину вышел пассажир из пункта А, то бишь Дворца Молодежи, одним человеком, а домой вернулся, к слову сказать, через несколько суток и то, усилиями милиции – родители обзванивали все больницы и морги, человеком уже совершенно другим: не спасла эпоха Графиков и Расписаний, упустили ее слуги вечных путниц, какой была Катя, менявшаяся непрерывно и постоянная своей изменчивостью…
6.
Вот так началось мое знакомство с Дедом, которое переросло в ученичество, ученичество порой жесткое, выбивающее не только из оседлости: казалось, куда меня после восьмилетних мыканий по свету еще выбивать? – а ведь было еще куда, ой как было, но из пут любой предсказуемости и однозначности, это было продолжением пути, на который вывела меня Катя, и если уж говорить начистоту, то ученичество у Деда было даже более тепличным, что ли, хотя никак не безопасным, Дед любил приговаривать древнюю даосскую мудрость: «Уважать родителей легче, чем их любить, любить родителей легче, чем их забыть, забыть родителей легче, чем заставить родителей забыть о тебе, заставить родителей забыть о тебе легче, чем самому забыть обо всем в Поднебесной, забыть обо всем в Поднебесной легче, чем заставить всех в Поднебесной о тебе забыть», я ухожу по этой Дороге все дальше, иногда петляю, вот сейчас пишу текст – явный след, хотя и надеюсь, что останусь неузнанным, но до сих пор не могу взять в толк – зачем вычеркивать себя из Поднебесной? – я два года следовал за Дедом из города в город, в каждом из которых он, исключительно забавы ради, так как он считал, что стер себя из списков, графиков, расписаний, - ан нет, фотография-то осталась, ставил меня в ситуацию авантюры, приключения, риска… как я при этом буду решать свои проблемы – личные, денежные, иные – это было исключительно моей заботой и его не касалось, он же видел свою задачу в том, чтобы обнаружить и оборвать мои привязки к чему бы то не было, для этого он ставил меня порой на грань смертельного риска или риска уголовного, мне еще два раза после возвращения в Россию, пришлось менять паспорт, а вы, наверное, представляете, что без очень больших денег в нашей стране эта задача почти невыполнимая, мне же она удавалась… особенно интересовала Деда история с Катей, он видел в ней знак и свидетельство моей незаурядной подготовленности к ученичеству, только Дед старался не трактовать и не объяснять, как это делала Толковательница, его инструментом был внезапный поступок, когда он понял, что с помощью Кати я сумел отвязаться от целой бездны привязанностей, без которых не мыслит свою жизнь обычный современный человек, а Толковательница помогла мне вылезти из силков Великой Матери, Дед сосредоточил внимание на единственной крепкой зацепке: на женщинах, на самой Кате, которая уже не в ипостаси Великой и Ужасной, но в архетипе женщины-учителя – Софии прочно сидела в глубинах моего бытия и сознания; а как же потом отношения с Ритой? - неужели усилия Деда были напрасны? - спросите вы, и я отвечу, что не нужно торопиться, все, что было после Деда, происходило и происходит уже по несколько иным законам, хотите - верьте, хотите - нет, а проще – следите за тем, что будет разворачиваться дальше… в каком из возможных дальше – это уже моя забота, мое плавание, уже задним числом, по каналам и протокам сознания, и то, ошибся Дед или нет, точнее, ошибся ли я, когда понял, что обучение окончено и возвратился – повернул с полдороги в Питер – Дед ждал меня через день в Иркутске, так вот, если мне повезет еще раз и расходящиеся тропки сознания выведут меня туда, где я нахожусь сейчас – не правда ли – достойный коан? – тогда и видно будет, что и как; а остановился я неожиданно, в декабре девяносто восьмого я ехал в поезде из Новосибирска в Иркутск, в купе я ехал один, играло радио, и вот, вдруг, где-то после Канска, зазвучала надрывным воем гитара Владимира Кузьмина: «Я не забуду тебя никогда, - твою печаль, твою улыбку, слезы. А надо мной гудят печально провода, и поезд мчит меня в сибирские морозы», и схлопнулось… мне трудно описать словами то, что я пережил в этот, казалось бы, банальный внешне момент, но постараюсь: я лежал на полке в полудреме когда прозвучал первый куплет песни, да все было просто, обычный синхронизм – поезд действительно вез меня в сибирские морозы, но этот внешний синхронизм запустил какую-то сложнейшую реакцию, приведшую, как говорил Дед к внезапной полноте присутствия: началось с того, что в сознании одновременно, насколько это конечно, возможно, вспыхнули лица тех женщин, которые были у меня после Кати и в период моих отношений с Катей, она поощряла мой опыт в этом деле и многажды сама готовила женщин для меня, иногда устраивая небольшие оргии для себя, меня, и еще нескольких женщин и мужчин, это всегда были гетеросексуальные связи, тем не менее, первые разы, которые последовали вскоре после нашей первой с Катей ночи, приводили меня в панику; вместе с этими лицами вспыхнули и другие – матери, бабушек, тети Веры, других женщин из моего детства, одноклассниц, женщин, которых я желал пусть хоть только долю минуты, тех вослед которым оборачивался… все они вместе непостижимым образом, будто причудливая переливающаяся мозаика, составляли Катин лик; секундой позже я ощутил, как буквально взрываюсь, взрываюсь в окружающее пространство каждой клеточкой своей, до боли, сладчайшей боли, боли горькой утраты, боли непобедимой усталости, боли безнадежности и обреченности, боли оргазмического пика: в одно и то же время я переживал ко всем им и, конечно же, к Кате, любовь: плотскую и платоническую, безнадежную и сбывшуюся, скрываемую и показную, а также ненависть, лютую злобу, восхищение, экстаз, брезгливость, презрение, отчаяние, печаль, ревность, обиду, торжество и бог знает сколько еще всего, - как только мой организм справился с таким переживанием? – потом, вдруг, все стихло, как после бури, длившейся всего минуту, минуту – вместившую вечность, и тут я что-то понял, нет, не сформулировал мыслью, а понял по существу, я бы мог сказать, что я понял ВСЕ, но слово ВСЕ бессмысленно, так как ничего не объясняет: я понял КУДА я живу, не зачем, не почему, а именно КУДА, и это оказалось очень просто сформулировать словами – я живу ТУДА, КУДА и живу, вот до чего просто все оказалось, умом понять это не сложно, но я пережил, хотя бы мгновение я жил этим пониманием, этим последним уроком моей беспощадной любимой учительницы Кати, нет, предпоследним, все же, о последнем я пока умолчу. Пока ехал до следующей станции, глуповато улыбался, там сошел с поезда, дождался встречного и, доехав до Красноярска, взял билет на самолет в Питер, где и живу с тех пор, где встретил в две тысячи третьем Риту, которая сидит сейчас рядом и дремлет, опершись о мое плечо…
7.
Наверное, каждому знакомо состояние, когда ты не спишь, а кемаришь, то есть краем сознания сохраняешь прерывистую связь с «разделенной реальностью» и, в то же время, эта связь порой до неузнаваемости изменяется каким-то просоночным сюжетом, в котором происходят события полусна, имеющие свою причудливую логику… сегодня, а пишу я эти строки двадцать девятого декабря две тысячи седьмого года в одном из отелей на Канарах, где мы с Ритой благополучно приземлились утром, дабы встретить Новый Год в экзотической обстановке – давняя мечта моей девочки, уже вечер, солнце скрылось в океане, волны плавно накатывают на берег и по телу разливается блаженная истома растворения в субтропической ночи, так вот сегодня в самолете я, недавно разговаривающий с Риткой, забылся коротким полусном, чем-то там я отдавал еще себе отчет, что лечу в самолете, но это зыбкое сознание оттенялось сценой, в которой мне очень важно было задать моей спутнице странный вопрос: зачем же ты все-таки ко мне приходила? – и сам вопрос-то относился не к Рите, а к совсем другой женщине, вернее помню я ее семнадцатилетней девушкой; с трудом размыкая веки, я сказал-таки эту фразу, - Когда? – недоуменно отвечала моя красавица, и оба мы засмеялись над нелепостью сразу же раскрытой глупости… глупости ли? – ведь зачем-то в эту полудрему мне явилась девушка, которую я видел в последний раз ровно двадцать шесть лет назад, она приходила ко мне домой перед новым тысяча девятьсот восемьдесят вторым годом, родителей дома не было, я смущался и робел, я не знал, что сказать этой Гале, а она сидела на моем диване, уютно поджав под себя ноги, я был влюблен в нее, не так сильно, как в Катю, но она была девушкой моего лучшего друга, я дико завидовал ему, с первого класса мы были вместе и в школе и во дворе, хулиганили, разбивали лампочки в подъездах из рогаток, качались на таганке над вонючим прудом, падали, сорвавшись, в этот пруд, сбегали с уроков, мечтали о путешествиях и открытиях, о больших судьбах ученых – оба мы зачитывались романами Даниила Гранина, и вот он поступил в Университет на МатМех, а я сдрейфил и в последний момент подал документы в Техноложку, оба мы были неудачники по части девушек, оба – робкие и стеснительные и вот уже после первых недель учебы Борька стал гулять с симпатичной сокурсницей Галкой, ой как я ему завидовал, я не с кем еще не гулял, хотя многие девушки на факультете мне нравились, что уж говорить о Кате, но это была принцесса не для меня, как я тогда думал; часто мы бродили по паркам Питера втроем: я, Борька и Галка, они – обнявшись, Галка все смеялась, что сосватает мне кого-нибудь из подружек, но почему-то не торопилась меня с кем-нибудь знакомить, ее лукавые карие глаза останавливались на мне порой дольше, чем я мог выдержать и я отводил взгляд и краснел, да я бы тогда лучше повесился, чем дать повод лучшему другу подозревать меня в вожделении его девушки… и вот она сидит у меня на диване, строит глазки, - позвонила полчаса назад: - Мы с Борькой поссорились, может посоветуешь что… я зайду? – Конечно! – сердце бешено заколотилось, но я взял себя в руки и пошел ставить чайник, она пришла и первым делом заявила, что с Борькой у нее все кончено, я, конечно, горячо возражал, обещал их помирить во что бы то ни стало, а сам-то ведь догадывался в чем дело: Борька хоть и гулял с ней и даже целовался при мне, но признавался, что у них ничего серьезного еще не было, и что он собирается жениться на Галке, и вот только после свадьбы… но я-то видел, что она хотела, не обязательно Борьку, она вообще хотела, я видел это, но не смел ни себе, ни другу в этом признаться, и вот она сидит у меня на диване поджав свои аппетитные ножки в белых колготках, и ее круглые коленки мозолят мне глаза, а она произносит медленно, растягивая слова: - Сядь рядом со мной – я неловко присаживаюсь, держа дистанцию, а ее глаза смеются: - Да не бойся ты меня, глупенький, обними лучше, я Борьке ничего не скажу! – меня как током ударило; пять секунд немыслимых борений между хочу и нельзя, между безумно хочу и очень нельзя, между неистово хочу и очень-очень нельзя – я вскакиваю с дивана и от волнения переходя на фальцет, пищу: - Ты что, Боря ведь мой лучший друг! – она тоже медленно встает с дивана, поправляет юбку и, проходя в прихожую, презрительно бросает: - Откуда вы только такие сосунки, беретесь?- о как точно она поразила мишень! - я ведь знал, что я сосунок, но ни за что бы не признался никому, даже Борьке, которому я тут же и позвонил, я, конечно, не рассказывал про то, что было с Галей, сказал только, что она заходила попрощаться – теперь я уже не хотел их мирить, я не хотел такой жены своему другу, мы напились в хлам, потом еще пили вместе несколько дней подряд, каждый по своему поводу, потом едва сдали сессии; нет этой девочке далеко было до Катюши, я довольно быстро забыл потом этот эпизод, да так до сих пор и не вспоминал, и вот те на: в самолете по пути на один из самых престижных курортов, пройдя огни и воды в отношениях с женщинами, посапывая на плече у любимой женщины, вдруг вернуться на мгновение в свою скованную железными кольцами Кроноса юность: зачем же ты все-таки ко мне приходила?.. а действительно: зачем? – только не тогда, а сегодня утром, в самолете? Я ищу зацепку, чтобы понять смысл этого сна и снова возвращаюсь в университетскую кафешку, где Дед критиковал «Бытие и Время» Хайдеггера; он говорил тогда: - А ведь Дорога, которую Хайдеггер так и не упоминает, знаменует выпадение из Времени Циферблатов и вхождение в поток происходящего, отдаленный от мира повседневности, столь не любимой штандартерфюрером; дело происходит примерно так: все привычное, связанное с жестким расписанием будней перестает быть единственно-возможным и пресловутая хайдеггеровская «озабоченность» разжимает свои тиски. – Дед опять хитро подмигнул, но я не понимал куда он клонит и я уже было подумал: «вот ведь, заносит на филфак всяких шизиков, тщащихся удивить мир построением доморощенных теорий, опровергающих классиков!», возможно, он и прочитал на моем лице это выражение подступающей скуки, а я к тому времени уже не отличался особой вежливостью, мог послать подальше, а в случае навязчивости собеседника и по морде заехать, он, несомненно, заметил мое вялое внимание и, хохотнув, мягко похлопал меня по плечу и, как будто прочитав мои мысли, произнес: - Ты погоди меня в дурачки-то записывать, я ведь для тебя именно говорю… так вот: как только я действительно оказываюсь в Дороге, все, что я ежедневно делал, теперь отложено, оно скукожилось, поникло, утратило настоятельность настоящего, отсрочено не только то, что я делал, но и привычный ход мыслей – этих паразитных ожиданий, заполнявших все пустоты в графике ежедневных дел; Дорога еще не привела меня никуда, но уже вызволила из-под пресса времени, я освободился от всего, чем был занят и я смотрю на все, что осталось без меня отстраненно и безучастно, - Так это и ежу ясно! – А если ясно, то тебе должно быть знакомо предчувствие кочевника… – Что за предчувствие? – Звучит примерно так: «а вдруг без меня прекрасно обойдутся и те, кому я обещал, и те, кого я приручил?», это только предчувствие, но оно истинно, просто без Дороги у тебя не было времени подумать об этом… - Я перебил его: -Послушай, дядя, если уж ты заметил блеск моих глаз и как ты там выразился «атмосферу», то мог бы догадаться, что у меня-то как раз время подумать было и не однажды, и вся твои азбучные истины я переживал печенками сотни раз! – я шумно поставил стакан на столик и развернулся, чтобы идти, но слова, которые прозвучали мне в спину, заставили меня гипнотически застыть: совершенно другой тон, очень серьезный, не допускающий возражений, я понял, что слова эти произносит человек, который не только знает больше моего, но который гораздо сильнее меня, а таковых после возвращения на родину и анализа у Толковательницы, я не встречал еще: - Будешь звать меня не дядя, а Дед, про то, что ты пережил многое вижу, пережил да не допережил, и вот еще: послезавтра я буду в Воронеже, найдешь меня по этому адресу… - я обернулся и, пока он дописывал на клочке бумаги адрес, тихо и внятно произнес: - договорились.
8.
Дед умел очень четко формулировать мысли. В частности про Дорогу он говорил, как про лучший из способов изменения состояния сознания, особенно если странник проводит в пути больше времени, чем в пунктах назначения и, особенно, если каждый следующий пункт назначения неизвестен, все это было мне знакомо, более того, мне было понятно и то, что Дорога – это не обязательно физическое перемещение, путешествовать можно и по социальным мирам, и по внутренним пространствам, что правда, гораздо сложнее, но этому искусству научила меня Катя, а позднее Толковательница и, конечно же, Василиск… Дед добавил в это искусство четкое различение трех возможностей, которые предоставляет Дорога: двигаться спиной вперед - возможность сжать объекты озабоченности в точку и вырваться из окружения, преобразовав его в линию удаляющегося горизонта, «бытие-навстречу» - резкое ослабление ежедневных обязательств, направленных на самого себя, и, наконец, самая драгоценная возможность, которая по силам только опытным кочевникам - оглядываться по сторонам; вот я сижу сейчас в бунгало, слушаю, как шипит прибой и пытаюсь оглядеться по сторонам, здесь не Питер, не та Европа, что катится к сладострастному разрушению, под сокрушительными волнами «золотой дремотной Азии», которая и накатывает эту самую дремоту, забвение ценностей и смыслов, обваливающую столпы нравственности вопреки скудным попыткам немногих действительно совестливых благодетелей сохранить то самое «подлинное бытие», о котором толковал Хайдеггер, большинство прячется от самого видения падения цивилизации в многозаботливость, болтовню, близорукое времяпровождения в тусовках и разного рода шоу – от телевизионных до «эзотерических»; лишь немногим, вошедшим в такт и вкус ритма разрушения, доступен «пир во время чумы», который и является самой настоящей Дорогой; здесь же, на Канарах, в оазисе покоя и безмятежности, этот ритм теряется и даже таким опытным кочевникам, как я и Рита, его тут не поймать, вот и врывается в мои сны, как предупреждение, изменившийся, ставший вдруг незрелым лик Анимы, ведь если ты вырвался из цепких объятий Великой и Ужасной Матери, это не гарантирует, что ты уже никогда не можешь угодить в них вновь, ибо Дорога никогда не приводит тебя к финалу, это всегда неустойчивое равновесие или устойчивое неравновесие, я вспоминаю слова Толковательницы: - Порой даже на низких уровнях, могут проявляться символы более высоких ступеней, как и наоборот – в какой то момент достигший постижения Анимы на четвёртом уровне иногда опускаться на второй, а то и самый первый – невротический... Что это за уровни, спросите вы? – и я расскажу, я просто обязан это рассказать… я расскажу даже более простым языком, чем Толковательница, ведь в лабиринтах моей памяти многие теоретические выкладки хранятся в виде очень простых образов и ассоциаций; мы много говорили о внутренней женщине, живущей в психике каждого мужчины – Аниме, хотя, конечно, внутренняя женщина и Анима это не совсем одно и то же, но пусть это будет так, я ведь волен свободно распоряжаться понятиями и их интерпретациями; так вот Юнг выделял четыре уровня развития Анимы: Ева, Елена, Мария и София, где первая, самая нижняя стадия развития Анимы – Ева, изначальная праматерь, там женское начало еще не отделено от материнского, это здесь действенны все те древнейшие мифы о кастрированных сыновьях-любовниках, не отделимых от Великой и Ужасной Матери, которые мы долгое время обсуждали с Толковательницей, и, оглядываясь вокруг, мы обнаруживаем огромное количество мужчин, не сумевших вылезти из объятий Богини, плененных ее сексуальностью, даже крутые мачо сидят у нее в заложниках и, соответственно, под каблуком у своих жен и любовниц, и помните - я писал про альфа и омега самцах, так вот со введением уровней развития Анимы мужчины, картинка становится уже двумерной и не все оказывается столь просто и однозначно, альфа самец с Анимой на уровне Евы будет трахать всех сексуальных, но инфантильных самок, женщины же более тонкой душевной организации просто не будут попадать в орбиту его внимания, а несчастный рифмоплет Пьеро, если, конечно, его рифмы достаточно изящны и тонки, может-таки завоевывать сердца и души возвышенных дам, вот только будет ли у него стоять на них – вопрос особый, ведь красота, сексуальность и глубина души – три разные вещи и счастье тому, у кого все они совпадают; красота же (но отнюдь не обязательно сексуальная красота, скорее красота академическая - аполоническая) стала отличительным признаком следующего уровня развития Анимы – Елены Троянской: вот такая красота может развязать войны, как это и случилось между Элладой и Троей, здесь эротизм уже отделен от материнского начала, но крепко спаян еще с агрессией и желанием обладать, обладать так, как обладают красивой вещью; так купцы Кнуров и Вожеватов торговались за обладание красотой бесприданницы Ларисы, а ее обманутый жених Карандышев – вот уж точно омега самец, которому самой судьбой не дано было овладеть своей невестой, так как альфа самец Паратов – уже не просто самец, но тот, у кого и деньги есть и толика ума, явился вовремя, дабы не дать свершиться невозможному – отдадим дань интуиции Островского, мужчину с Анимой этого уровня уже не проведешь на мякине, он не обязательно расчетливый купец, но вполне может быть и рыцарем… кстати о военных: в Афгане я знавал нескольких выраженных представителей такого типа мужчин, одним из них был особист с которым я и подрался, что повлекло за собой мой перевод из относительно спокойного Кабула, где я возил полковника Медведева на газике от расположения части ко дворцу Амина – один и тот же маршрут день за днем в течении полугода, я то ведь до отчисления из института окончил автошколу – в феврале восемьдесят второго мне стукнуло восемнадцать и отец обещал подарить мне, при условии успешного окончания первого курса жигуленок-копейку, да только суждены мне были не прогулки с ветерком по проспектам и пригородам Питера, а полгода езды на газике с бронированными стеклами; эти полгода Катя скрашивала мое пребывание в Афгане, нет, она не была простой чекушкой – так называли мы женщин, отдающихся за чеки внешторга, многие из которых сделали себе на этом состояние, Катя отдавалась бескорыстно и офицерам и, бывало, солдатам, а тот особист из политотдела решил, видать, прибрать ее к себе – типичное свойство мужчин, чья Анима – Елена Троянская, сделать своей походно-полевой женой, да застал ее со мной; а вы знаете, что такое особист политотдела? – я мог подраться с обычным майором и даже подполковником – такие случаи бывали нередки по разным поводам, и отделаться гауптвахтой или даже нарядом вне очереди, а то, бывало дело заминалось просто так, особенно, если по пьяни или по обкурке – дурь-то курили за речкой все, кроме может быть, таких вот политруков, дьявол его побери; он – молодой старший лейтенант, старше меня лет на шесть – семь, мог построить любого боевого подполковника, вот и тогда – черт дернул завернуть его в каптерку, где мы с Катей наслаждались друг другом… драку начал он, я лишь два раза ответил и то неловко как-то – особист был могучим детиной, его кулак четырежды посылал меня на пол, покуда я не отключился, а вечером уже был подписан рапорт о моем переводе в одно из самых гиблых в ту пору мест – мотострелковую часть в Герате, даже полковник Медведев ничего не мог поделать и виновато смотрел мне вслед, он, видимо уже видел меня в цинковом одеянии, но не случилось – уже через месяц Катя, использовав все свои сексуальные таланты, была снова рядом со мной… здесь поток воспоминаний буксует: сейчас в дивной субтропической ночи в бунгало на берегу величественного и спокойного океана мне не хочется забираться глубоко в серию афганских образов, и я возвращаюсь к уровням развития Анимы, где следующий – третий - Юнг называет Марией, только не в материнской ее функции, а как архетип проводника и духовной сестры, таковой для меня подчас была Катя, та Катя, которая вытаскивала меня из переделок и бед, та Катя, которая вела по пути постижения себя самого; позже я знал нескольких женщин, с которыми меня связывала исключительно дружба, несколько лет после Кати мне казалось, что между мужчиной и женщиной не может быть дружеских отношений, но я ошибался, как ошибаются все те, чья Анима не выросла выше Елены Троянской; высший же уровень Анимы – София, мистическое постижение женской природы, как собственной, так и конкретной женщины, здесь я знаю только двух: Катю и Риту, лишь о них я могу сказать, что глядя в их глаза я постигаю Сущее, растворяюсь в мироздании, погружаюсь в тайная тайных… Катя вырастила мою Аниму, подняла с первого уровня на четвертый, точнее все это лишь схема и условность: все четыре уровня живут в каждом мужчине, в ком-то высшие из них лишь изредка поблесткивают, подобно затерявшейся в ночи искорке догорающего костра, в иных переливаются сложными узорами, тяготея, все же к некому доминирующему лику, для того же, чья Анима прошла путь до конца, до устойчивого мистического мировосприятия, а Анима – мировосприятие в основном чувственное, - для того доступны все ее лики, но, если зазеваться, то все равно легко можно оказаться в цепких лапах кастрирующей Матери; здесь читатель может упрекнуть меня в предвзятом отношении к архетипу Матери, в материненавистничестве, но это не так, я люблю мать, и свою и Великую Богиню, люблю, но не позволяю ей управлять собой, я автономен и самостоятелен, моя первая прекрасная учительница привела меня на путь самостоятельности, на путь постижения себя и мира, и когда я замечаю тревожный симптом, подобный появлению девушки из моей юности Гали, выражающей лик Анимы – Евы, я благодарю Великую Мать и меняю контекст: сейчас утро, мы с Ритой упаковываем чемоданы, чтобы успеть на двенадцатичасовой рейс и встретить Новый Год у моих друзей в Челябинске – может быть, мы даже успеем доехать до Аркаима; моя милая девочка ничего не спросила, она знает, что если я что-то решил, значит для этого есть веские причины, она только говорит мне: - Я успею еще искупаться? – Успеешь, …и не только искупаться! – я обхватываю ее хрупкую талию, кладу ладонь на упругую, ждущую моих ласк грудь и сладчайший поцелуй заставляет нас обоих затрепетать в предвкушении огненного вихря, зарождающегося в нашем существе, ставшем единым, излучающим волны благодарности и благодати в лоно и сердце Великой Матери…
9.
Я не люблю вспоминать о войне и о годах, проведенных вне России. Не эти годы изломали мою жизнь, создав волшебную возможность для долгого, болезненного, но единственно верного для меня пути к своей сути, к тому, где теряется граница между мной и миром, там я забываю о смертности своего «я» и вспоминаю о бессмертии бытия в целом; все эти годы – в Афгане, в Исфахане и Париже были заполнены для меня исключительно Катей и моими столь противоречивыми к ней чувствами, затапливающими меня целиком, так что я порой забывал где я нахожусь; расстались же мы с Катюшей уже в России в восемьдесят девятом году, через несколько дней после приезда на Родину, она, кстати, могла преспокойно остаться в том же Париже, следуя за мной, она отклонила множество таких предложений, ради сотой доли которых наши соотечественницы десятками тысяч уезжают из страны в тот же Париж или куда там еще; ощутив пьянящий воздух родного дома, возможность не унижаться больше, зарабатывая на кусок хлеба мытьем посуды в кафешках, и не страдать от положения альфонса (пусть она никогда и не позволяла мне многого, подталкивая к самостоятельности) при красотке-куртизантке, я устроил Кате сцену: меня прорвало как плотину, и я с жаром высказывал ей все обиды и унижения, - первая неловкая попытка освободиться от материнского комплекса, - как скажет потом Толковательница, да, я продолжал оставаться трусом, ведь не смел же я высказать все это в том же Герате, Исфахане и даже Париже, лишь почувствовав относительно твердую почву под ногами, я дал волю переполнившим меня страстям, годами удерживаемым внутри, раздирающим душу; Катя слушала мою истерику удивительно спокойно, и лишь когда весь в слезах и соплях я несколько раз надрывно прокричал ей: - Иди на х.., сука, я ненавижу тебя!!!, - она посмотрела на меня с прощальной нежностью, и этот взгляд вдруг остановил поток моих надрывных воплей, она сказала тогда: - Будь по-твоему, прощай, - развернулась и ушла, ушла навсегда, хоть я и искал ее еще много лет, надежда случайно повстречать ее оставалась у меня даже после нескольких лет сеансов у Толковательницы и во время колесения по всей стране вслед за Дедом, только встретив Риту я успокоился, я обрел искомое, тогда же, остановив крики и рыдания я только что и сумел прошептать беззвучными губами: - Постой! – но не сделал ни шага за ней, почему-то я был уверен, что она как всегда вернется, но увидеть ее в следующий раз мне довелось лишь в две тысячи пятом году в совершенно неожиданном облике, что послужило еще одним волшебным пендалем для меня; тогда же в восемьдесят девятом, не дождавшись Кати ни через день, ни через неделю, ни через месяц, я впал в запой, почти беспросветно пил и блудил полтора года; будучи трезв и пьян, я кружил головы женщинам, я в совершенстве уже умел это делать, трахал их и бросал, влюбившихся и отчаявшихся, особенно радуясь, когда попадались замужние и разваливались семьи, я мстил за то душевное состояние, которое расковыряла во мне Катя, обнажив мой прикрытый маской хорошего мальчика невроз, я не знал еще, что благодаря неврозу, особенно обостренному, человек только и может откровенно увидеть свои ограничения, - но вместе с тем узнать и свою силу, и свою истинную сущность: с этой точки зрения невроз похож на будильник, и его роль гораздо более позитивна по сравнению с той, которую ему приписывает медицинское сообщество и подавляющее большинство непрофессионалов, - это все откроется мне благодаря Толковательнице, которая и нашла меня в крайней точке падения на одной из вечеринок, пьяного, жалкого, потерявшего всякий интерес к жизни…
10.
Мои сны…
Мои сны конца восьмидесятых начала девяностых… я вижу свое имя, записанное на могильной плите, разлагающиеся части своего тела, судью, зачитывающего приговор, священника, завершающего соборование, рушатся здания, черви копошатся в гниющих телах,… поле битвы, древнее, усеянное трупами лошадей, людей… топоры, копья, мечи, прах и тлен… потом еще здания, охваченные пламенем, обрубки тел, конечности, валяющиеся на земле, обугленный, искаженный до неузнаваемости обрубок, бывший лишь минуту назад старшим лейтенантом Абдуллаевым, колонна машин, застрявшая в ущелье, и даже не страх, а ярость с которой я, подобно другим бойцам, матерясь и бессвязно крича, поливаю во все стороны свинцом, потому что никто не знает, где притаились снайперы моджахеды… пьянящая ярость, одержимость Аресом - страх подступит уже гораздо позже, страх и отвращение… вот лежит младший сержант Онищенко, Димка Онищенко, со снесенным черепом и вытекающей оттуда кровавой слизью и мозгами смешавшимися с грязью… еще вчера мы вместе курили травку и мечтали о счастье которое ждало нас, и мы это непременно знали - меня в далеком Питере, его в деревне под Полтавой, обкуренный я обнимал его тогда, шептал что-то невнятное про Катьку, а он улыбался, кивал… и вот его расплющенное тело грузят в БМП, моя одержимость Аресом проходит, тело начинает трястись, меня колотит, летеха Фомичев подносит к моим губам флягу со спиртом, я жадно глотаю, но не чувствую обжигающей горечи, для меня сейчас спирт как вода, лишь минут через десять я начну что-то чувствовать… о чем я? – о снах?.. да, сны той поры перемешались с видениями нескольких – да всего-то трех боевых операций, с тех пор Смерть прочно поселилась в моих снах: упавшая птица лежит на спине, со всех сторон ко мне тянутся когтистые лапы, гробы, еще гробы, закутанные в саваны фигуры, зачем-то я приоткрываю один из саванов и чье-то лицо, состоящее из сухих струпьев, осыпается прямо под моими руками… мне отчего-то кажется, что это лицо женщины, которая была молода и красива, она неистово кричала, переживая оргазмы, ее глаза светились нежностью и полнотой любви и желания, ее глаза сейчас - тлен в провалившихся глазницах, а вокруг снова пляшут гримасничающие маски с оскаленными зубами, косы, змеи, собаки, кости, черные лошади, воронье и вот еще один образ, который испугал меня в детстве, когда бабушка читала мне сон Татьяны из «Евгения Онегина»: «вот череп на гусиной шее вертится в красном колпаке», упавшие деревья, бурелом, предметы, исчезающие в клубах дыма, подозрительная женщина ведет меня куда-то вниз по винтовой лестнице, и во мраке возникают глаза, вырванные из глазниц, пальцы, крылья, летучие мыши, бессвязные голоса, какой-то причудливый танец… я чувствую сырость, как в склепе, внезапные порывы ледяного ветра… смерть витает в воздухе, в огне, воде и на погосте; в то время, погружаясь в сон, я не содрогался уже, я привык к этим образам… лишь когда рядом была Катя, она вытаскивала меня из их цепких объятий в какие-то причудливые дымчатые переливчатые абстракции, соединенные с острым желанием, от которого я и просыпался, жадно устремляясь во всегда гостеприимное Катино лоно; однако мы редко спали вместе, и моими ночными спутниками были образы разложения, тления и гниения – Нигредо, мой мальчик, первая неизбежная стадия алхимической трансформации души, - говорила Толковательница, она признавалась мне, что мои сны были для нее своего рода пиршеством: - Вам чертовски повезло, - повторяла она часто, - многим так и не удается вступить в стадию нигредо до конца жизни, удивительно, что ваше «я» сумело созреть и накопить силы, чтобы выдержать эту схватку с силами гниения, разложения и тления, я считаю, что вашей опорой была Катя, вы спроецировали на нее как разрушительную, так и созидательную стороны своей Анимы: разрушительная толкала вас в объятья смерти в прямом и переносном смыслах, созидательная вытаскивала и продолжает вытаскивать из ее цепких лап; - Толковательница не раз говорила мне что я – редчайший экземпляр в ее практике, а образ Кати и подавно, ибо не встречается ни одного клинического описания, в котором одна женщина являлась бы объектом, на который проецировались бы все, какие только возможно, аспекты Анимы; еще тогда на Песочной набережной, разрушив все опоры, на которых держалась моя личность маменькиного сынка, вслед за чем могла бы последовать неминуемая гибель, она не отпустила меня и несколько дней создавала новые хоть и шаткие опоры в моем помутненном разуме; мы оказывались на каких-то квартирах, где пили, танцевали, где она отдавалась мне снова и снова, а потом приглашала для меня других женщин, конечно ни одна из них не могла сравниться с ней, и эти опыты любви втроем обрушивали очередные жесткие структуры во мне, но я уже не сопротивлялся, я чувствовал себя подобно начинающему байдарочнику, которого вынесло в бурный поток: его первая реакция - закрыть глаза и съежиться от страха, потом пытаться управлять движением байдарки при помощи весел, неумело налетая на камни, чтобы затем постичь искусство отдаться потоку; мне повезло или же это моя учительница была настолько искусна, что я умудрился обойти стороной все водовороты и смертельные пороги: взорвавшийся лавинообразно инстинкт не убил меня сразу, хотя и подставил меня в борьбу за выживание во всех сферах моего бытия – борьбу, длившуюся почти десять лет, направляемую богом похоти и жизненной силы, богом, разрушающим все моральные ценности и запреты: Василиском, о нем мы тоже много говорили с Толковательницей, позже я нашел его описание в литературе: в большинстве книг по мифологии он предстает как вымышленный зверь с головой петуха, туловищем жабы, хвостом змеи и короной на голове; он считался злым духом, убивавшим одним своим взглядом – Толковательница поясняла, что его взгляд убивает жесткие структуры души, навязанную мораль, социальные ценности… он опасен, загадочен и непонятен, как, впрочем, и сама сексуальность.
Эмма Роберторовна говорила, что, несмотря на то, что со времен Фрейда создано огромное количество теорий сексуальности, еще не пришло время для понимания этого явления, а быть может Василиск не будет понят и взят под контроль никогда, ну а если так, то к сексуальности неприложимы никакие нормы: сексуальность не может быть нормальной или ненормальной, она прекрасна и ужасна, демонична и возвышенна - предъявлять ей моральные требования бессмысленно… впрочем в восемьдесят втором году, отдавшись этому потоку, думал я иначе – в ту пору мне казалось, что я пал на самое дно, а отчисление из института и Афган лишь подтверждали эти мысли, хотя, признаюсь, после начала общения с Катей мыслительная функция перестала определять мою жизнь и влиять на поступки, хотя внутренних борений и терзаний предстояло еще очень и очень много, и я много раз задавал себе вопрос - какой же черт подтолкнул меня по наклонной, сделав меня одним из тех, кого называют моральным уродом, отребьем человеческим… лишь с середины девяностых я могу улыбаться, вспоминая свои незатейливые мучения и угрызения совести и присоединяю свой голос к голосу Фридриха Ницше, сказавшего однажды: «я ученик Диониса, я предпочел бы скорее быть сатиром чем святым»…
[1] Туман – денежная единица Ирана, употребляемая в простой речи. Один туман равен 10 иранским риалам.
Три тумана – очень маленькая сумма.